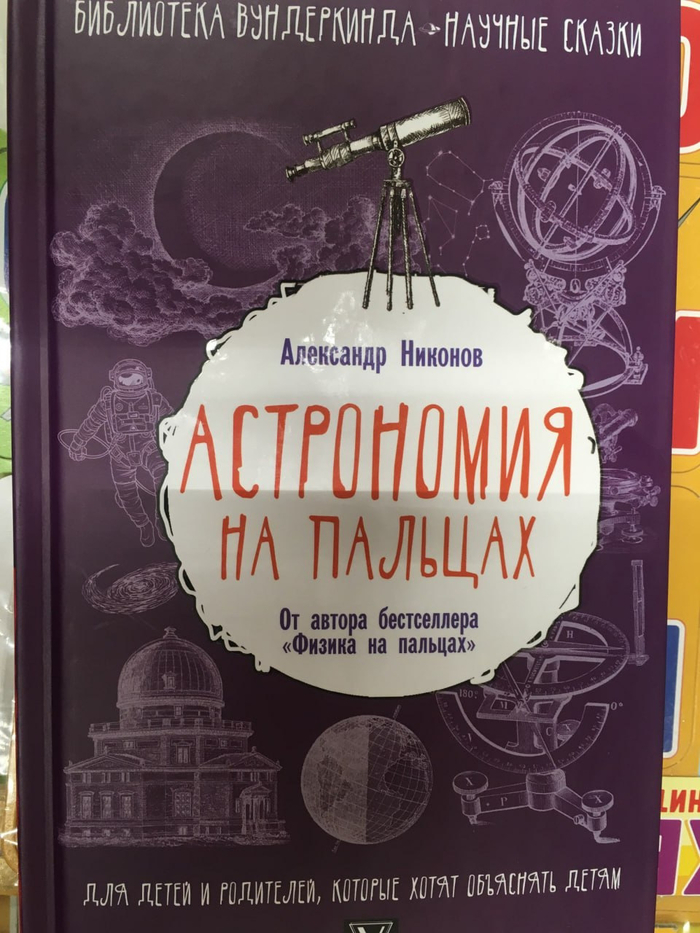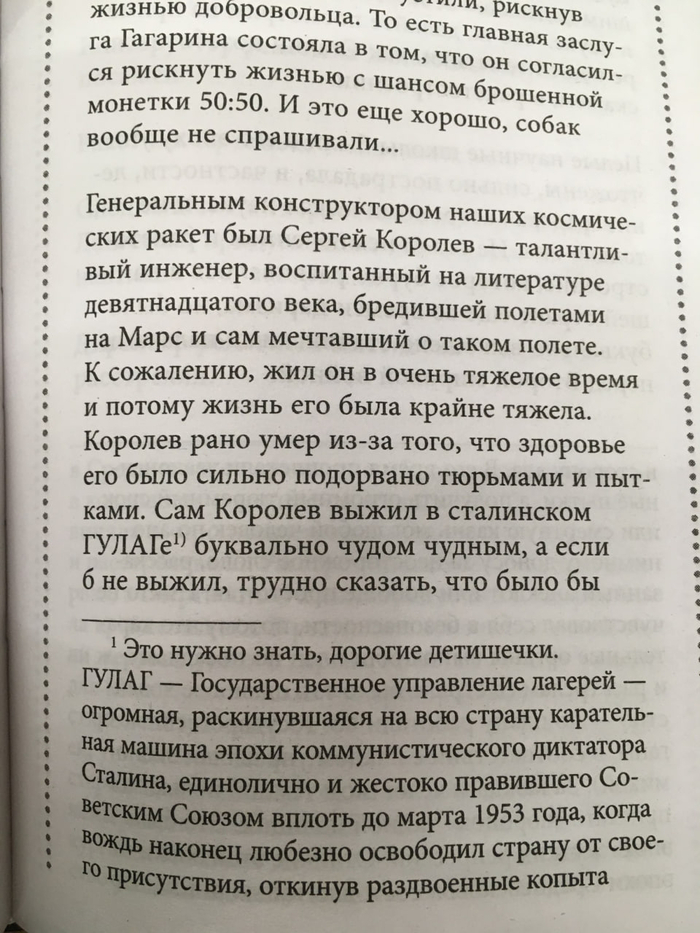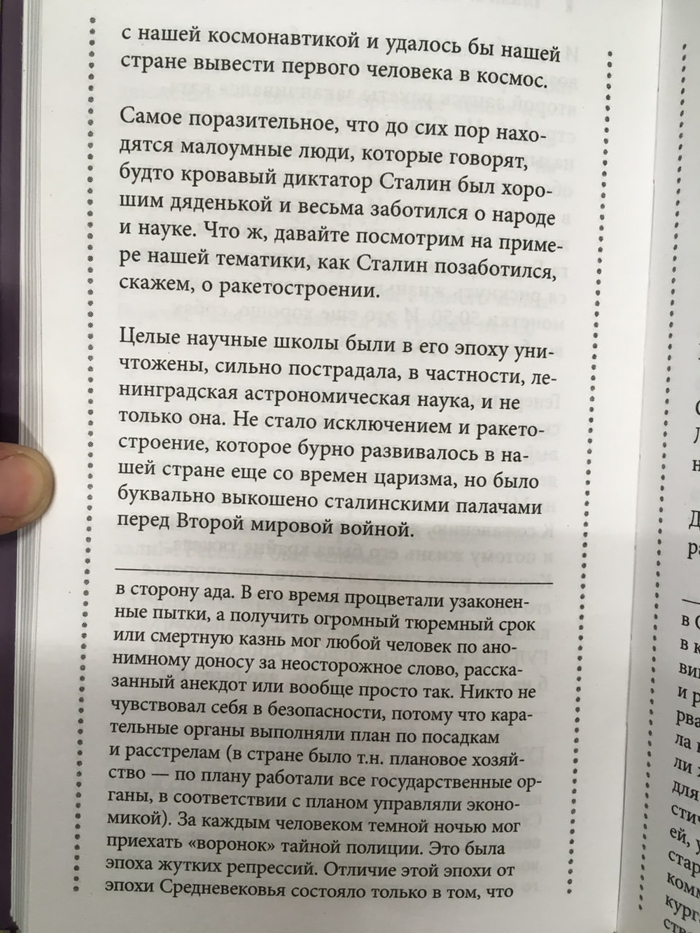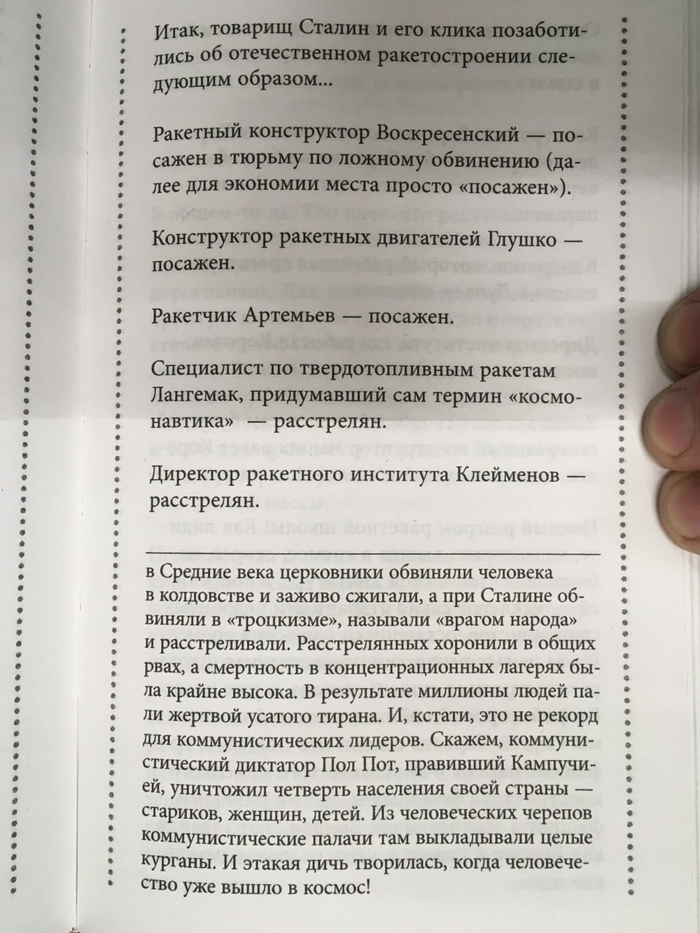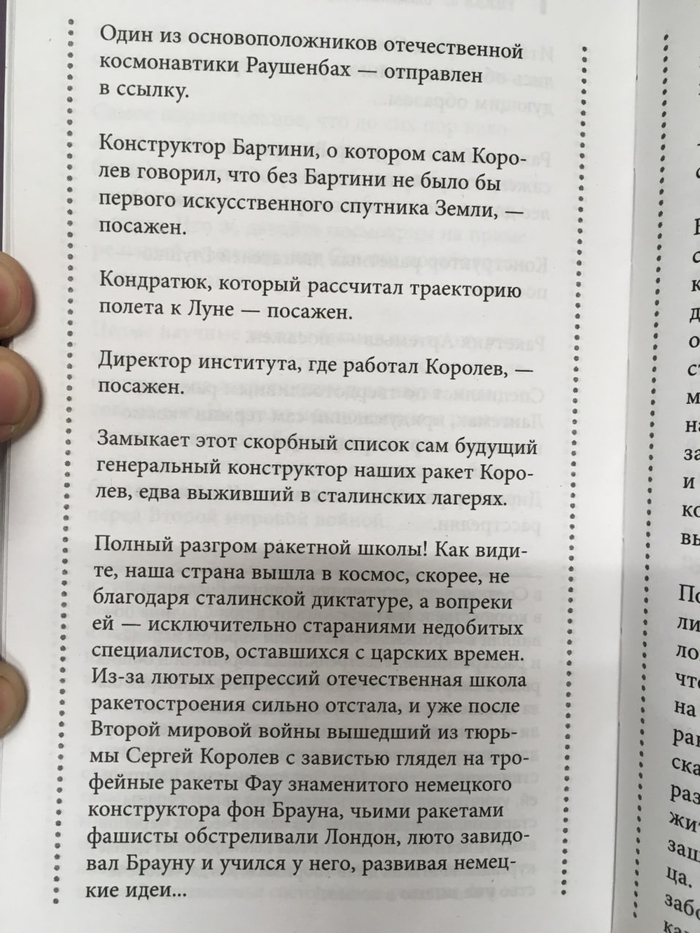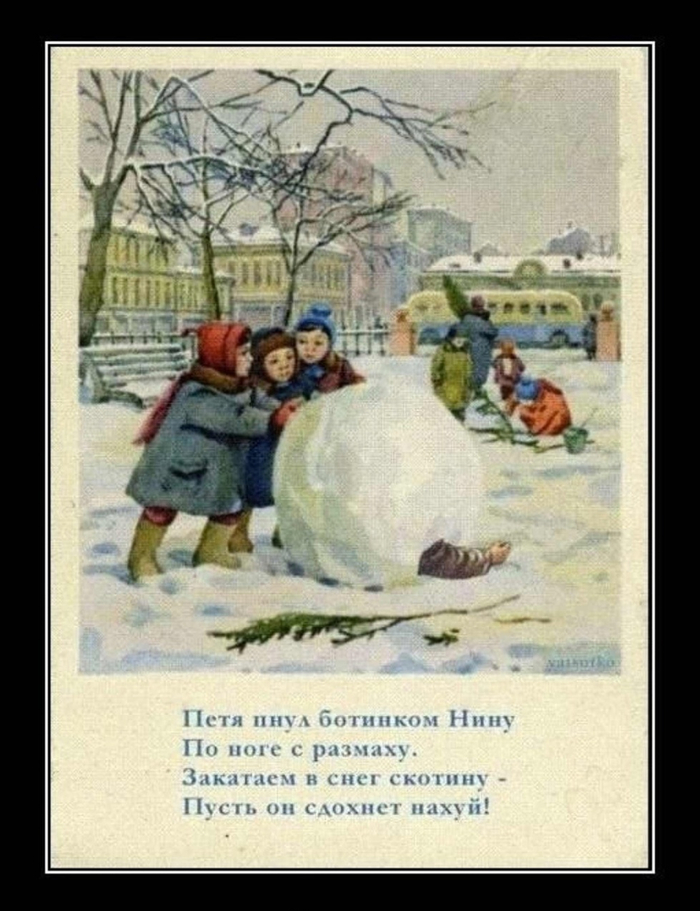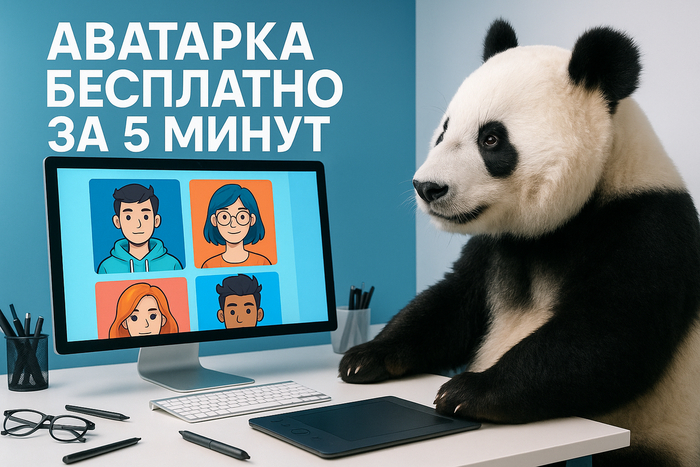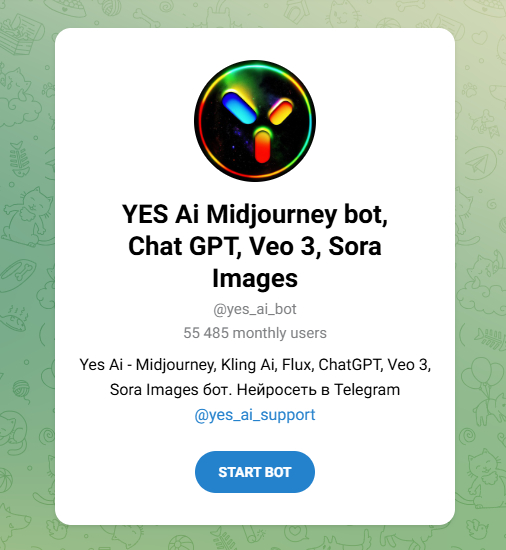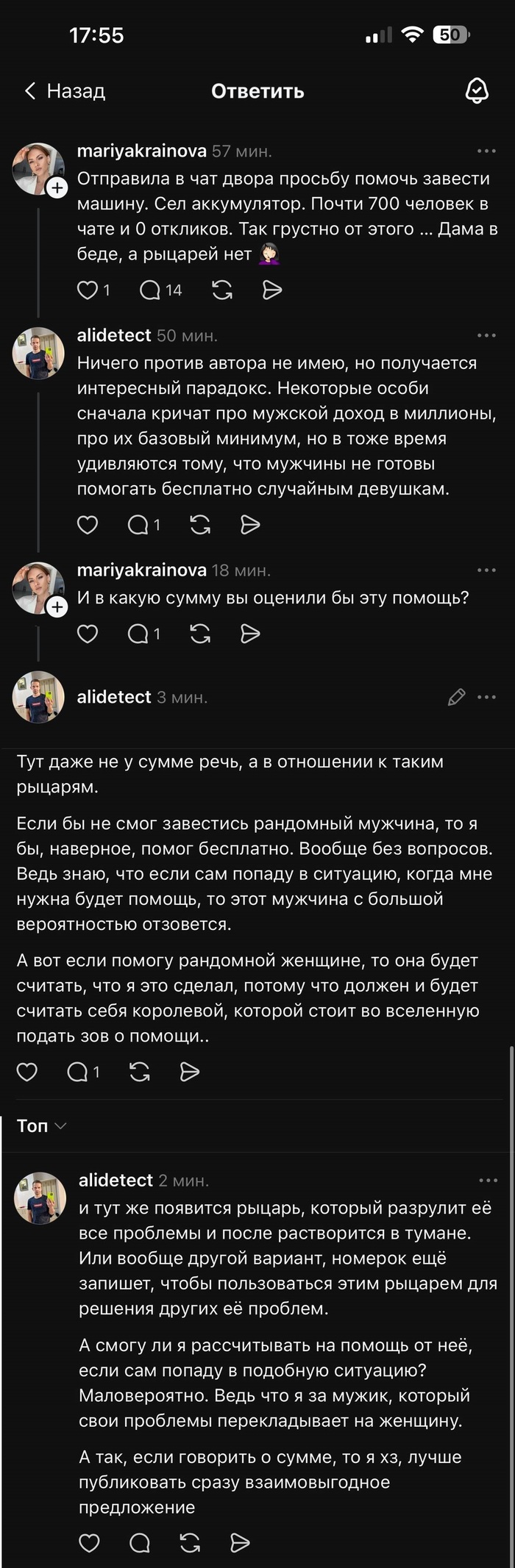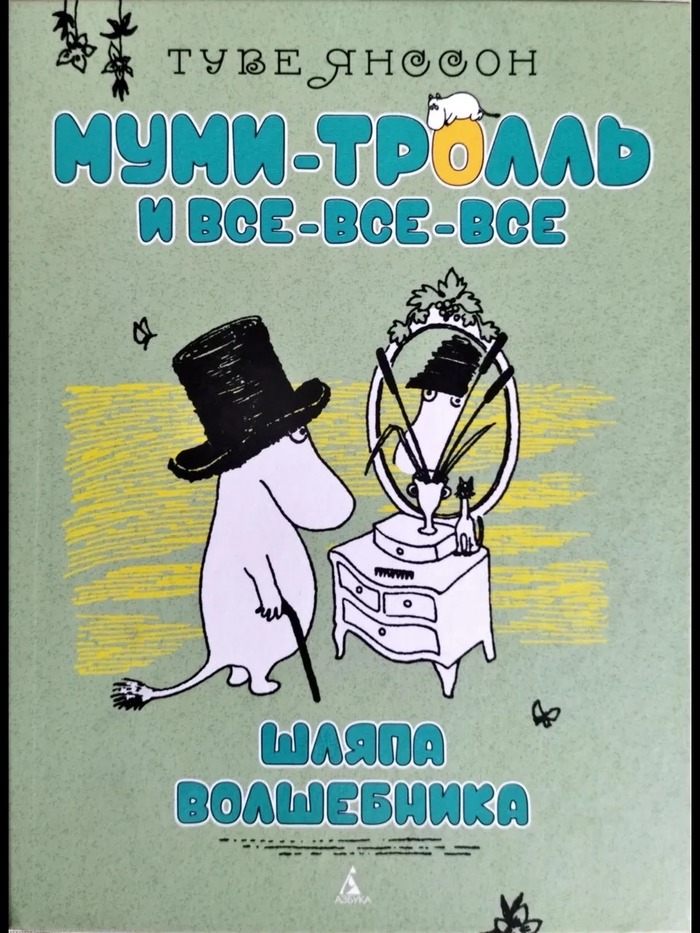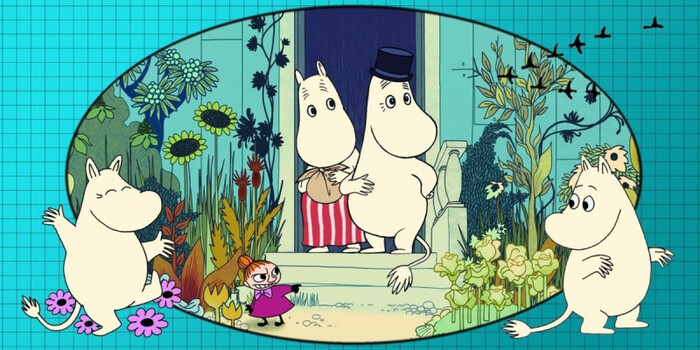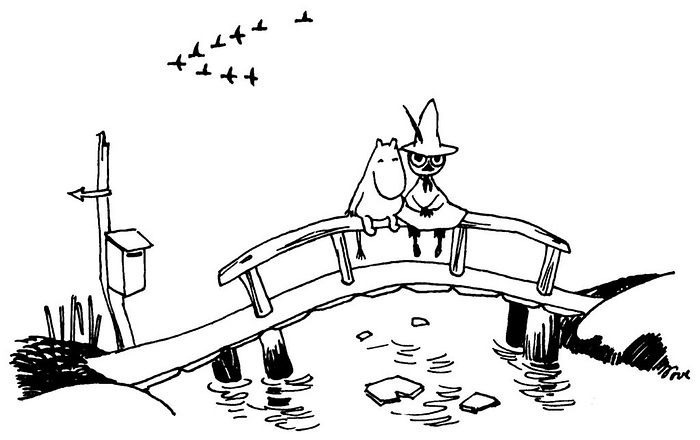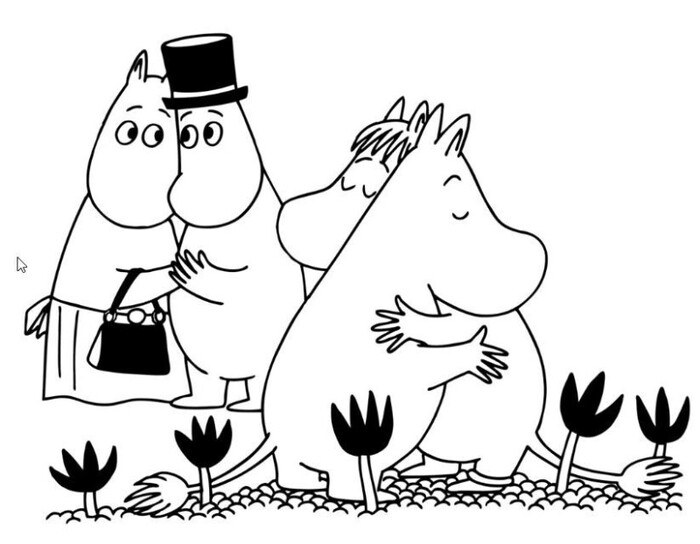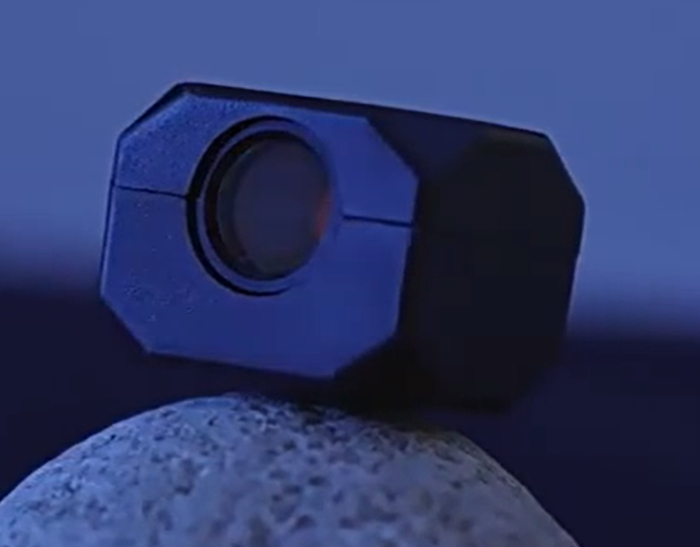Моя работа — сортировать письма для Санты. Есть всего одно правило
Две недели назад я работал на почте.
Это не иносказание и не попытка создать таинственную атмосферу. Я тружусь там с двадцати одного года: сортирую, сканирую, перемещаю вещи из одного места в другое, чтобы другие люди могли о них забыть.
Работа стабильная. Тихая. Такая, где ничего интересного происходить не должно.
Каждый год примерно в середине ноября меня переводят на сезонную должность.
Официально я числюсь в отделе «Без ответа». Неофициально — я тот, кто сортирует письма, адресованные Санте, на которые никогда не придёт ответ.
Большинство людей не представляют, сколько их приходит.
Дети по‑прежнему пишут бумажные письма. Родители по‑прежнему поощряют это. В школах это до сих пор часть занятий. К тому моменту, когда эти конверты попадают к нам, они уже — тупиковые: адреса, которых не существует, имена, которые ненастоящие, обратные адреса, написанные неровным почерком карандашом.
Оборудование автоматически помечает их. Их изымают до сортировки и отправляют в наш отдел.
Мы не отвечаем на них. Не пересылаем благотворительным организациям. Не читаем полностью.
Последнее — это правило.
Оно действует с конца 90‑х, по словам моего начальника. Задолго до того, как я начал работать, задолго до того, как он сам пришёл сюда.
Объяснение, которое дают на обучении, простое и заученное: дети иногда пишут в письмах о личных делах. О проблемах в семье. О ситуации дома. Не наше дело читать личную информацию, которая не предназначалась для нас.
Поэтому мы бегло просматриваем. Убеждаемся, что письмо адресовано Санте, ставим отметку «Без ответа», регистрируем и складываем в архив. Можно прочитать первую строчку, может быть, две. Дочитывать до конца нельзя. Никогда.
В первый год люди шутят об этом. Думают, что это суеверие или какой‑то старый пережиток кадровой политики, который никто не удосужился убрать. Кто‑нибудь всегда спрашивает, что будет, если всё‑таки дочитать письмо до конца.
Начальник никогда не отвечает прямо. Он просто говорит, что это приведёт к немедленному увольнению.
Долгое время я верил, что это всё, что это значит.
Я перестал считать правило смешным три Рождества назад.
Тогда я узнал, что происходит после увольнения. Это строго охраняемая тайна среди тех, кого втягивают в это, и вам рассказывают только тогда, когда все решат, что вы никому ничего не скажете.
Вас не выводят из здания под охраной. Не устраивают сцен. Вам просто говорят собрать вещи и уйти. Ваши учётные данные деактивируют позже в тот же день. Доступ к внутренним системам пропадает. Для всех остальных выглядит так, будто вы уволились или были уволены по какой‑то обыденной причине.
То, что происходит дальше, не описано ни в одном руководстве.
Всё начинается одинаково каждый раз. В течение дня или двух человек говорит, что чувствует, будто за ним наблюдают. Сначала он, возможно, отшучивается и списывает это на стресс. Потом описывает нечто более высокое, чем должно быть, стоящее слишком далеко, чтобы это имело смысл. Силуэт. Тень, которая не двигается, когда двигается он.
К четвёртому или пятому дню он перестаёт смеяться.
Все описывают это одинаково: чёрная фигура, не меньше двенадцати футов ростом, непропорциональная, с руками, доходящими до голеней, стоящая прямо, словно притворяясь человеком.
На ней шапка Санты. Настоящая — красная, с белой отделкой, из дешёвого фетра. Шапка никогда не меняется. Она никогда не падает. Она никак не реагирует на погоду.
Она не преследует их. Не говорит.
Каждый день она становится чуть ближе.
Она может стоять на другой стороне улицы. В конце прохода в продуктовом магазине. На тротуаре при свете дня. Другие люди проходят сквозь неё, словно её там нет. Никто её не замечает. Никто не реагирует. Именно так они понимают, что она предназначена только для них.
Преследование длится двенадцать дней.
На тринадцатый день они умирают.
Почта не признаёт связи. Официально эти люди погибают в результате несвязанных с этим происшествий или по медицинским причинам. Неофициально никто в отделе «Без ответа» больше не нарушает правило.
За исключением меня.
Потому что некоторые письма — не такие, как все.
Время от времени — редко, но достаточно часто, чтобы мы этого боялись, — вы находите смятый конверт, запечатанный красным воском вместо клея. Без марок. Без обратного адреса. Только имя, аккуратно написанное карандашом, словно автор боялся ошибиться в написании.
Именно из‑за этих писем существует правило.
Мы должны отложить их в запертый ящик и немедленно сообщить начальству. Без регистрации, без сканирования. Их забирают в конце месяца.
Каждое из них адресовано Санте.
За всю свою карьеру до прошлой недели я видел одиннадцать таких.
На двенадцатом было имя моего племянника.
То же имя. Та же фамилия. Даже изгиб карандаша на первой букве выглядел знакомо неправильным. У моего брата есть семилетний сын. Он пишет своё имя так же на поздравительных открытках — слишком крупно в начале, а потом буквы становятся мельче, будто он устаёт на полпути.
Я не открыл его сразу.
Я долго стоял, глядя на печать, убеждая себя, что совпадения случаются и дети могут иметь одинаковые имена. Я говорил себе, что красный воск ничего не значит. Что у многих детей есть дяди, работающие на почте.
Я взял больничный, сразу ушёл и поехал прямо к дому брата.
Он рассмеялся, когда я рассказал ему о конверте. Сказал, что я слишком заморачиваюсь. Сказал, что его сын, вероятно, нашёл его штамп с воском, который он использует для работы, и захотел сделать что‑то особенное. Когда я спросил, писал ли его сын недавно письмо Санте, его улыбка слегка померкла. Он сказал, что да, но не увидел ничего тревожного. Обычные вещи: игрушки, конфеты, видеоигры.
Он спросил, почему я так переживаю. У меня не было ответа, который не звучал бы безумно.
Той ночью я видел сон о ящике на работе.
Он был открыт, и письмо исчезло.
На следующее утро я нарушил правило.
Я сказал себе, что прочитаю достаточно, чтобы убедиться, что это не его письмо. Сказал себе, что остановлюсь, если дело коснётся личных тем. Сказал себе, что не дочитаю до конца.
Я ошибся.
Письмо было написано карандашом, аккуратно, но осознанно. Без орфографических ошибок. Без детских оборотов.
В нём благодарили Санту.
Благодарили за последний подарок. Не за игрушки или игры, а за «конфету», которая «заставила маму перестать плакать».
В письме говорилось, что Санта был прав — что совершение плохого поступка сработало, и никто ничего не узнал. Обещалось, что в этот раз будет ещё лучше. Что кража — этого уже недостаточно, а причинять боль животным теперь кажется мелочью, поскольку он понял, чего на самом деле хочет Санта.
Проступки перечислялись, словно дела по дому.
В конце спрашивалось, чего Санта хочет дальше, потому что приближается Рождество, и он хочет быть хорошим мальчиком.
Я не помню, как отложил письмо.
Помню только, как начальник стоял за моей спиной и велел отдать ему мой пропуск.
Она не спорила. Не кричала. Она выглядела уставшей, словно видела эту ситуацию раньше и каждый раз ненавидела её. Она сказала, что я уволен за нарушение политики конфиденциальности и должен немедленно покинуть здание.
Она не предупредила меня ни о чём другом.
Я не ушёл с работы сразу.
Я сидел в машине на парковке почти час с письмом на коленях.
Я всё ждал, что кто‑нибудь постучит в окно и скажет, что это уже слишком, что они донесли свою мысль и я могу вернуться внутрь. Никто не пришёл. Люди уходили с работы, проходили мимо моей машины, даже не взглянув дважды.
Я поехал к дому брата, потому что больше некуда было идти.
Он открыл дверь, за его спиной ещё не спал сын, из коридора доносились голоса из мультфильма. Обыденность этого делала то, что я держал в руках, непристойным, словно я принёс что‑то заразное в чистую комнату. Я спросил, можем ли мы поговорить наедине. Он колебался, затем вышел со мной на улицу, закрыв за собой дверь.
— Почему ты держишь письмо Лукаса?
Мы стояли на крыльце. Лампочка над нами мерцала каждые несколько секунд. Раньше я этого не замечал.
— Оно пришло на мою работу, — сказал я. — Тебе нужно его прочитать.
— Ты вскрыл почту моего ребёнка?
— Да, но ты поймёшь, когда прочитаешь.
От этого стало только хуже. Он взял конверт из моих рук и перевернул, нахмурившись на восковую печать.
— Что это? Какая‑то шутка?
— Серьёзно, прочитай.
Он сломал печать пальцем и начал просматривать страницу. Я следил за его глазами, двигавшимися строчка за строчкой. Когда он остановился, он уставился на бумагу, словно потерял место.
— Это не смешно, — сказал он.
— Я знаю.
Он сложил письмо один раз.
— Ты написал эту чушь?
— Нет.
— Ты его подговорил?
— Нет
— Ты правда думаешь, что это пришло от настоящего… — Он оборвал себя, резко и без юмора рассмеялся. — Ты что, всерьёз, Мэтт?
— Меня сегодня уволили. Я не стал бы рисковать работой из‑за такой ерунды.
— Это ничего не объясняет.
— Я пытался не читать. Мне нельзя было. Но когда я увидел его имя…
— Ты опять про эти правила, — сказал он. — Про ту дурацкую «санта‑историю», о которой ты каждый год твердишь?
— Это не дурацкая, — возразил я. — У этого есть причина.
— Так теперь мой сын — причина?! — Его голос стал громче. За его спиной телевизор рассмеялся в нужный момент. — Ты думаешь, мой сын, чёрт возьми, причиняет людям вред?
— Нет, — быстро ответил я. — Я думаю, что‑то просит его об этом.
Он уставился на меня, ожидая усмешки, которая не появилась.
— …Ты болен, приятель, — наконец произнёс он, глядя на меня испепеляющим взглядом.
— Такое случалось и с другими. С коллегами. Как только дочитаешь одно из этих писем, которые я взял…
— Хватит. Не приходи в мой дом и не говори такой бред.
— Просто выслушай меня, хоть раз, пожалуйста…
— Тебе нужна помощь, Мэтт. Серьёзно. Ты сошёл с ума.
— Есть нечто, — мой голос сам собой стал тише. — Оно начинает следить за тобой. Высокое. В шапке Санты. Двенадцать дней, а потом…
— Уходи. Не говори так о моём сыне. Не разговаривай со мной, пока не приведёшь себя в порядок.
— Я не о нём говорю, — сказал я. — Я говорю о том, что приближается.
Он открыл дверь за собой.
— Держись подальше от моего дома. И не возвращайся, пока не признаешь, что всё это выдумал.
— Но Рождество…
— Не надо, — оборвал он. — Не приноси этот бред в мой дом.
Я отступил дальше на крыльцо. Он без колебаний закрыл дверь.
Замок щёлкнул.
За дверью мой племянник смеялся над чем‑то по телевизору.
В наступившей тишине мерцающая лампочка на крыльце наконец погасла.
В конце улицы нечто высокое стояло совершенно неподвижно, ожидая.
Я ушёл от дома брата, не отрывая от него взгляда.
Когда я добрался до дома, оно стояло на другой стороне улицы от моей квартиры, частично скрытое фонарным столбом, который доходил лишь до его бедра. Шапка Санты идеально сидела на голове, ярко‑красная на фоне тела, поглощающего свет, а не отражающего его.
Я не видел, чтобы оно двигалось. Я смотрел из окна гостиной, пока глаза не начали болеть, пока моё отражение не наложилось на тёмное стекло, заставляя сомневаться, существует ли эта фигура на самом деле. Когда я отвёл взгляд и снова посмотрел, оно всё ещё стояло в конце улицы, прямо за знаком «Стоп».
Машины проезжали мимо, не замедляясь. Свет фар проходил сквозь его ноги и выходил с другой стороны, не изменившись. Женщина пробежала прямо сквозь то место, где оно стояло, в наушниках, выдыхая пар в холодном воздухе. Она даже не заметила высоту того, мимо чего прошла.
Той ночью я не закрыл шторы. Я хотел знать, подойдёт ли оно, пока я сплю, двигается ли оно только тогда, когда я не смотрю.
Оно не двигалось. Шапка Санты была самым ярким пятном на улице.
На второй день оно было ближе.
Оно стояло напротив моего дома под фонарём. Свет ничего не выявлял, лишь очерчивал его контур, словно нечто приклеенное к миру. Я вышел рано, до рассвета, убеждая себя, что если пройду мимо достаточно быстро, то докажу, что оно не может взаимодействовать со мной.
Когда я шёл мимо, я почувствовал давление в глазах, словно вспоминал что‑то забытое. Это длилось меньше секунды. Когда я обернулся, оно всё ещё было позади меня.
Той ночью мне приснилось, как красный воск размягчается в моих руках.
На третий день оно было на парковке.
Оно стояло между моей машиной и выездом. Я обошёл его, не останавливаясь. Помню, что чувствовал скорее злость, чем страх — злость, что оно имеет право существовать таким образом, нарушая основные правила близости и последствий.
Мужчина прислонился к моей машине, чтобы завязать шнурок. Его плечо прошло сквозь ногу существа, не вызвав никакой реакции.
По привычке я поехал к почте, прежде чем вспомнил, что больше там не работаю.
На четвёртый день оно стало появляться внутри помещений.
Я увидел его в конце отдела с замороженными продуктами, его голова почти касалась висящих вывесок. Люди толкали тележки сквозь него. Ребёнок пробежал мимо меня, смеясь, когда холодный воздух ударил ему в лицо.
Я оставил свои покупки и вышел.
Той ночью рождественская музыка начала казаться предупреждением.
На пятый день оно последовало за мной на улицу, где живёт мой брат.
Оно стояло на тротуаре перед его крыльцом, ноги почти касались ступеньки. Позже я видел, как мой брат прошёл сквозь это место, держа сына за руку, не замедляясь, не замечая. Лампочка на крыльце включилась. Дверь закрылась.
Существо не ушло.
На шестой день я перестал пытаться объяснить.
Я позвонил в службу неотложной помощи. К психотерапевту. К кому‑нибудь, кто мог бы придать этому форму, не ведущую к гибели. Я говорил о стрессе, безработице, тревоге. Каждый слышал именно то, что ему нужно было услышать.
Той ночью оно стояло на краю территории моего дома, ближе, чем раньше. Я впервые закрыл шторы и всё же проснулся с ощущением, что что‑то коснулось стен.
На седьмой день оно было в лифте, ведущем к моей квартире.
Двери открылись, и оно уже было там, слегка согнувшись, чтобы поместиться. Женщина вошла следом за мной и прислонилась к его ноге, не осознавая этого, слегка нахмурившись от неожиданного холода.
Я вышел на два этажа раньше. Остаток поездки сопровождался скрипом, словно лифт нёс больше веса, чем должен был.
На восьмой день оно сначала появлялось в отражениях.
На тёмном экране моего телефона. В дверце микроволновки. Всегда позади меня. Когда я оборачивался, оно оказывалось в комнате там, где должно было быть, чтобы оставаться вне досягаемости.
Я никогда не слышал, как оно дышит.
На девятый день оно перестало оставлять мне пространство.
Я поворачивал за углы и почти натыкался на него. Я начал выставлять руки перед собой, боясь столкнуться с ним, как с неудачно расставленной мебелью.
Той ночью оно стояло у изножья моей кровати и наклонилось вперёд ровно настолько, чтобы шапка Санты слегка опустилась.
Я не спал.
На десятый день я попытался уехать из города.
Я ехал, пока дороги не стали реже, а огни не исчезли. Я заперся в туалете на стоянке, чтобы просто перевести дух.
Оно ждало у раковин.
Я развернулся и поехал домой.
На одиннадцатый день оно больше не следовало за мной.
Оно ожидало в местах до моего прихода. Располагалось там, где это имело смысл, словно всегда было частью обстановки.
Если у него есть глаза, я их никогда не видел. Если у него есть лицо, думаю, я не выжил бы, увидев его.
На двенадцатый день оно стояло в моей спальне.
Не у изножья кровати. Ближе.
Оно наклонилось в поясе, пока его голова не заполнила всё моё поле зрения. Я почувствовал запах воска. Запах бумаги. Шапка Санты сдвинулась вперёд ровно настолько, что я подумал, будто наконец увижу, что под ней.
Затем оно свернулось в углу, невероятно маленькое, и ждало вместе со мной до утра.
Завтра — тринадцатый день.
Оно стоит всего в нескольких футах от меня.
Я умру завтра ночью.
Мне нужна помощь. Любая. Пожалуйста.
Чтобы не пропускать интересные истории подпишись на ТГ канал https://t.me/bayki_reddit
Можешь следить за историями в Дзене https://dzen.ru/id/675d4fa7c41d463742f224a6
Или во ВКонтакте https://vk.com/bayki_reddit