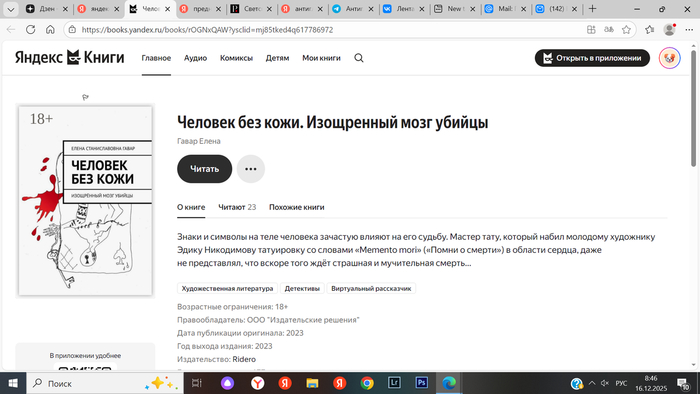Когда стирка наконец закончилась, я развесил вещи, надел чистое бельё и свежую рубашку. Поднёс ладонь к лицу, вдыхая — и мне всё ещё казалось, что от кожи исходит тот самый тошнотворный, сладковато-гнилостный запах. А за закрытыми веками, словно навязчивая галлюцинация, вновь вставали паучьи головы в банках и бездонная пустота немого отчаяния.
В кабинете я дрожащей рукой открыл бутылку выдержанного виски и залпом сделал несколько обжигающих глотков. Стало немного легче, помутнение прошло, но этот благородный, дубовый привкус не мог подарить настоящего забвения. Нужно было гномье пойло, выжигающее внутренности, или орочья бурда, валящая с ног и стирающая память.
Я взял новую, пахнущую свежей бумагой записную книжку, перенёс в неё уцелевшие, размытые записи из промокшего дневника. Проверил «Ворон»: разобрал, почистил, собрал с привычным щелчком, зарядил, сунул запас патронов в карман плаща. На улице, морщась от яркого света, зашёл в первый попавшийся парфюмерный магазин и купил первый попавшийся флакон одеколона — «Серебряный Ястреб». Холодный, с резкими нотами можжевельника, кожи и гари. Маскирующий, перебивающий все запахи.
Поймал такси и доехал к Борги. Полугном, увидев меня, хитро ухмыльнулся.
— Жив, детектив? А я уж думал, черти тебя к себе забрали. Это хорошо.
Он провёл меня в глубь мастерской, пахнущей сваркой и маслом, к «Грани». Внешне она не изменилась, всё тот же глубокий синий цвет, но что-то в её облике резало глаз. На боковой поверхности, чуть ниже линии окон, красовалась новая, нанесенная аэрографом эмблема — стилизованная синяя птица с хищно распахнутыми крыльями, угрожающим хохолком и раскрытым клювом, будто готовым вырвать кусок плоти. Работа была качественной, почти художественной.
— Это тебе «Синие Птицы» передали, — пояснил Борги, вытирая руки о замасленную тряпку. — Говорят, ты там кому-то жизнь спас. Теперь любая шваль в Трущобах, увидев этот знак, будет знать, что к машине лучше не подходить без приглашения. Кстати, доставили её на эвакуаторе, без колёс. Пришлось новые, пулеустойчивые, ставить. Опять же, за их счёт.
— Сняли-таки, — усмехнулся я, проводя пальцами по гладкой, прохладной поверхности попугая. — Сколько я тебе должен за хранение и работу, Борги?
— Рассчитались «Птицы». Щедро. Ты мне ничего не должен, детектив. Кстати, ты однажды забыл у меня два обреза. Теперь они под рулём, найдешь там под приборной панелью.
— Всё равно спасибо. Я запишу себе это в долг. Как-нибудь верну.
Я выехал из мастерской, и новенькая эмблема зловеще блестела на тусклом солнце. В специализированном табачном магазине, пахнущем дорогой кожей, воском и выдержанным табаком, я купил тяжёлую, брутальную бензиновую зажигалку и надёжные ветроустойчивые спички. Стоя на улице, наконец-то закурил — сигара больше не отдавала дерьмом и смертью, а лишь терпким дымом и обещанием забытья.
Затем направился в «Грех Теней». Джимми за стойкой с тем же стоическим выражением лица протирал всё тот же, казалось, единственный бокал. На этот раз его взгляд, скользнув по мне, был лишён привычной агрессии, в нём читалась лишь усталая покорность. Я устало опустился на табурет, чувствуя, как ноют заживающие рёбра.
— Парни из «Птиц» просили заглянуть к тебе. Вероятно, хотят выразить всю свою необъятную благодарность. Или выставить счёт.
Он молча, не глядя, протянул мне через стойку смятый, засаленный клочок бумаги с криво написанным адресом.
— Босс хочет поговорить. Лично.
Я взглянул на бумажку, сунул её в карман.
— Хорошо, Джимми. Не скучай тут без меня.
Уже выходя, задержался в дверях и обернулся:
— Кстати, а почему двери у вас зелёные, а не синие? Логичнее было бы.
— Раньше были синие, — буркнул он, не отрываясь от своего бокала. — Выгорали на солнце до этого убогого цвета. Перекрашивать — деньги тратить. Так и живём.
— Ага, понятно, — кивнул я, выходя на продуваемую всеми ветрами улицу.
«А козырьки и краску получше, видимо, только для Холмов придумали...» — мелькнула у меня саркастическая, горькая мысль.
В кармане плаща лежал тот самый адрес. Разговор с боссом «Синих Птиц». Это уже пахло не просто благодарностью или расчётом, а началом чего-то нового. Возможно, ещё более грязного, сложного и опасного. Но в этом проклятом городе другого и не бывало. Это был закон джунглей, высеченный на его грязных улицах.
Я вернулся в свою берлогу и принял единственно верное решение — залечь на дно. Слишком быстрое, почти сверхъестественное восстановление после таких травм вызвало бы у кого угодно нездоровый интерес. Я набрал номер Микки — в трубке звучали лишь длинные гудки. В участке, как я и ожидал, на автоответчике бубнил голос капитана Корвера, требуя моего появления «как только буду в состоянии держаться на ногах». Я мысленно пообещал ему явиться не раньше, чем через месяц. А сейчас полная изоляция.
Позвонил Борги, его хриплый голос был привычным якорем в этом хаосе.
— Нет ли у тебя на примете кого-нибудь, кто мог бы достать гномьего самогона? Настоящего.
— Зачем тебе, детектив, такая ядрёная штука? — насторожился он, и в его тоне послышалось неподдельное удивление. — Он же кишки выжжет.
— Для меня, — коротко бросил я, не вдаваясь в объяснения.
Он пообещал «навести справки». Через пару дней раздался его звонок:
— Могут доставить. Двадцать литровых бутылок. По пятьдесят крон штука. Дорого, но качество гарантируют. Без осадка и слепоты.
На следующий день я держал в руках тяжёлую стеклянную бутылку, заполненную мутной, маслянистой жидкостью, от одного запаха которой обещало снести крышу. Спать я не мог. Если вдруг проваливался в забытьё, то вырывался из него с диким, захлёбывающимся криком, весь в ледяном поту, с сердцем, колотившимся, как сумасшедшее, в грудной клетке. Несколько раз на рассвете к моей двери испуганно постучала миссис Молли:
— Зейн, дорогой, у вас всё в порядке? Мне послышалось...
Оставив на столе в прихожей тарелку ещё тёплого печенья или кусок пирога, она уходила, тихо вздыхая и жалостливо качая головой.
Я не знал другого способа заглушить этот ужас, вновь и вновь накатывающий в снах щупальцами и безмолвными криками. В тот же вечер я откупорил бутылку. Резкий, едкий, почти физически ощутимый запах, напоминающий смесь спирта, скипидара и чего-то органически неприятного, ударил в нос, заставляя задыхаться. Я налил полный стакан для виски, до краёв, и сделал первый, обжигающий глоток. По горлу и пищеводу прокатился огненный шар, выжигая всё на своём пути и оставляя после себя онемение и тепло, медленно расползающееся по жилам. Минут через десять в голове наконец появился долгожданный, густой, ватный туман, затягивая острые углы кошмаров.
Я взялся за расшифровку записей, пытаясь разобрать свои каракули в промокшем, расползающемся дневнике. К вечеру бутылка опустела, а я был окончательно, беспробудно пьян, пальцы едва попадали в дисковый механизм телефона. Набрал номер Борги.
— Спасибо... — прохрипел я в трубку, заплетающимся языком. — Отличный... напиток. Прямо... то, что надо.
— Ну что, детектив, хотя бы стакан осилил? — в его голосе звучало недоверие, смешанное с хрипловатым смешком. — Обычным смертным достаточно пары глотков.
— Да... Надо... надо ещё. Пару ящиков... для коллекции...
Бросил трубку и упал лицом на стол, проваливаясь в беспамятство, не отягощённое сновидениями.
Проснулся утром. Впервые за долгое время — без единого сна, без криков. На столе стояла пустая литровая бутылка, лучик утреннего солнца играл в её стекле. Голова была непривычно свежей, настроение — ровным, почти спокойным, на душе пусто и светло. Убрал бутылку, умылся ледяной водой и посмотрел в запотевшее зеркало. Ни шрамов, ни следов от ран — лишь бледная, гладкая кожа и память, приглушённая гномьим зельем, словно далёкий отголосок.
Решив, что в четырёх стенах мне сегодня томиться незачем, я взял ещё одну бутылку «лекарства» про запас, в оружейном загрузил в багажник «Грани» несколько ящиков с патронами и направился на ранчо Джона.
Я стоял у знакомых ворот, нажал на потрескавшуюся кнопку звонка.
— Кто это? — раздался знакомый, звонкий голосок Кевина.
— Зейн, — ответил я. — К твоему отцу.
Вскоре из-за угла дома появился Джон, его фигура резко выделялась на фоне утреннего неба. Молча откинув тяжёлый засов, распахнул ворота. Мы въехали на утоптанный двор.
— Где ты пропадал? — подойдя к машине и окидывая меня оценивающим взглядом, спросил он. — Сколько уж дней никаких вестей. Уже подумал, решил забыть свой долг передо мной?
— Были дела, — отмахнувшись, вылез я из-за руля, чувствуя приятное растяжение заживших мышц. — Раньше не мог.
Я достал с заднего сиденья бутылку той самой мутной жидкости и протянул ему:
— Это тебе. За науку. Сказали, для суставов полезно.
Потом достал оттуда же высокую, кричаще красочную коробку конфет в виде сказочного домика:
— А это… детям. Чтоб зубы портили, как положено.
— Не думай, что я тебя сейчас буду жалеть и сюсюкать, парень, — расхохотался Джон, и его лицо, испещренное морщинами, расплылось в широкой, почти хищной ухмылке. Глаза, похожие на щелочки, блестели от предвкушения.
— Наоборот, — выдохнул я, чувствуя, как знакомый озноб адреналина начинает пробиваться сквозь ватную пелену похмелья и вытеснять остаточную слабость. — Чувствую прилив сил. Как раз наверстаю упущенное.
И он принялся за дело без лишних слов. Навесил мне на ноги и спину потрепанные утяжелители, вручил тяжёлую, старую, но ухоженную винтовку с лоснящейся от множества прикосновений ложей и зарядил её единственным патроном, словно вручал священную реликвию.
— Задача проще некуда, — сказал он, указывая жестом на протянувшуюся впереди полосу препятствий, которая сейчас казалась дорогой в чистилище. — Проходишь круг. В конце этого весёлого променада винтовка должна выстрелить. Чисто, одним патроном. Если не выстрелила — бежишь заново. Будешь бегать, пока не сделаешь этот чёртов выстрел или пока твоё сердце не выпрыгнет через глотку.
Это был ад, придуманный циничным, изощрённым гением. Бег с грузом, заставлявший каждый мускул гореть, и с винтовкой на весу, от которой немела рука. Отжимания в липкой, холодной грязи, брызги летели в лицо. Перелезание через трёхметровую стену, когда пальцы скользили по мокрому дереву. Проползание под колючей проволокой над зловонной, ледяной канавой, держа оружие сухим и готовым, а спину — ниже уровня смертоносных зазубрин. Через два часа моя одежда промокла насквозь, словно после купания в реке, тяжёлым грузом висела на теле. Мышцы пылали огнём, лёгкие разрывало на куски, каждый вдох напоминал глоток раскалённого песка. Я стоял, пошатываясь, на финише, готовый рухнуть и уже не встать.
— Патрон в патронник, — скомандовал Джон, его голос прозвучал как удар хлыста. — И выстрел в воздух. Давай, порадуй меня.
— Как же я тебя ненавижу в этот момент, — прошептал я сквозь стиснутые зубы, с трудом переводя дыхание.
Он лишь расплылся в довольной, широкой улыбке, словно услышал лучший комплимент в своей жизни.
Дрожащей рукой я дернул затвор. Послышался твёрдый, металлический щелчок досылателя. Я поднял тяжёлый ствол, поймал мушку в расплывающемся зрении и нажал на спуск.
Раздался сухой, бесплодный, унизительный щелчок.
Я выматерился так смачно и громко, что, казалось, с ближайших дубов вспорхнула стая ворон. Отчаянно попытался вновь взвести затвор — механизм не поддавался. Постучал ладонью по магазину, потряс винтовку, словно пытаясь встряхнуть из неё жизнь, — всё было бесполезно. Щелк. Щелк. Щелк. Звук, похожий на насмешку.
— Ну что ж, — проговорил Джон с неподдельным, глубинным удовольствием, подходя ближе. — Констатирую. Ты умер. Осечка в самый неподходящий момент. Теперь следующий «ты», свежий и полный надежд, должен вытащить тело своего невезучего предшественника с поля боя.
Он швырнул к моим ногам здоровенный, набитый мокрым песком мешок, который с глухим стуком приземлился в грязь.
— Отдыхай час. Пей воду, молись своим богам, если они у тебя есть. — Он мотнул головой в сторону ворот. — Выход, если что, вон там. Но запомни: если уйдёшь, эти ворота для тебя больше не откроются. Никогда. Пока я тебя оставлю. Да, вот тебе пара сухпайков. — Он бросил мне две помятые банки. — Смотри, не растрать всё за один день. Это тебе не ресторан.
Он развернулся и неспешной, уверенной походкой ушёл в сторону дома, оставив меня наедине с моим провалом и адской трассой.
Я опустился на землю, прислонившись спиной к холодному, мокрому мешку с песком. Выпил половину фляги прохладной воды, и она показалась мне нектаром богов. Искушение вылить остаток на раскалённую голову было почти непреодолимо, но я сглотнул комок в горле и с силой закрутил крышку. Каждая капля была на вес золота.
Глаза сами потянулись к воротам. К той самой дороге, что вела обратно, в город. Туда, где меня ждали диван, гнетущая тишина квартиры и спасительная бутылка гномьего самогона. Там можно было спокойно пострелять в тире, без этих дурацких мешков, грязи и бесконечных, унизительных кругов.
«Еще один раз... и с этим чертовым мешком... Да он просто издевается! Он хочет меня сломать!»
Но сначала — отдых. Ноги были ватными, подкашивались. Да, моё проклятое тело восстанавливалось быстро, уже выгоняя из мышц молочную кислоту. Но морально, душевно я был выжат досуха, словно лимон. Одна только мысль о том, чтобы снова пройти эту адскую трассу, вызывала тошноту.
«Лучше бы я сдох там, внизу, в этой проклятой канализации. Это было бы быстрее и, чёрт побери, гораздо менее унизительно», — мрачно, с горькой иронией подумал я, закрывая глаза и чувствуя, как холодная влага от земли просачивается сквозь ткань штанов. Но глубоко внутри, под толстым слоем отчаяния, злости и усталости, копошилась, шевелилась другая сила. Упрямая. Свинцовая. Нежелающая сдаваться. Та самая часть, что когда-то выбрала жизнь в этом аду, а не лёгкую смерть.
Прошло минут двадцать. Я лежал на спине, впитывая телом холод сырой земли, и тупо смотрел на редкие, грязно-серые облака, медленно ползущие по небу. И вдруг, словно удар током, мысль пронзила мозг. Винтовка… Она ведь была покрыта грязью, я её погружал в ледяную воду канавы. Затвор, ударно-спусковой механизм, патронник… Всё оказалось намертво забито вязкой, абразивной грязью. Стрелять она уже физически не могла. Осечка оказалась вовсе не случайностью, а закономерным результатом.
Я сдавленно выругался, с трудом поднялся, чувствуя, как ноет каждый мускул, и, почти не глядя, дрожащими, одеревеневшими пальцами принялся шарить по разгрузке. Нашёл шомпол, маслёнку. Принялся разбирать проклятую винтовку прямо там, на коленях в грязи, пытаясь прочистить её в полевых условиях, без надлежащих инструментов. Песок скрипел на металле, время неумолимо утекало сквозь пальцы, каждая секунда давила тяжелее утяжелителя.
Когда из-за угла амбара появился Джон, я всё ещё копался с затворной группой, пытаясь выковырять засохшую грязь из самых труднодоступных уголков.
— Честно говоря, надеялся, что не догадаешься, — с одобрительной усмешкой констатировал он, остановившись в паре шагов. — Но время, увы, вышло. На позицию, солдат!
Я безнадежно посмотрел на разобранное, испачканное смазкой и землей оружие, потом — на его каменное, невозмутимое лицо, собрал винтовку под его тяжелым взглядом. Где-то в самой глубине души, под слоем усталости и злости, теплилась слабая, наивная надежда, что он забудет про этот чёртов мешок. Может, смилостивится?
Надежда умерла мгновенно, не успев вздохнуть.
— И не забывай своего товарища, — Джон несильно, но метко пнул носком грубого ботинка неподвижный мешок с песком. — Тащи его. Мертвецы, как известно, сами не ходят. И не жалуются.
Мало того, что на мне висели утяжелители, выжимавшие последние соки, так теперь ещё и этот проклятый, неподъёмный мешок, пахнущий прелым брезентом и влажным песком. Если первый круг Джон язвительно назвал «прогулкой налегке», то теперь мне предстояло проявить тот самый «настоящий характер», о котором он так любил рассуждать.
Первую половину пути я преодолел — вернее, продрался сквозь дебри, прорвался через преграды и вновь проковылял на одном лишь бешеном адреналине и ослепляющей ярости, подстёгиваемый оглушительными воплями Джона. Но на середине, там, где тропа резко уходила в крутой, глинистый подъём, я словно натолкнулся на невидимую, но абсолютно непреодолимую кирпичную стену. Не физическую — мои мышцы, подпитанные странной, неестественной силой, ещё могли тянуть, цепляясь за последние резервы. Стена была ментальная. Моя психика, и без того расшатанная до предела ночными кошмарами и травмой, сдалась. Она отказывалась принять реальность, в которой надо было тащить эту мёртвую тушу ещё столько же, через липкую грязь, скользкие брёвна и колючую проволоку, сквозь боль, ставшую уже фоновым гулом существования.
Я остановился, опершись о колено, и стоял, тяжело и прерывисто дыша, словно загнанный зверь. Воздух со свистом входил и выходил из лёгких. Оглянулся назад, на оставшийся позади участок трассы. Глаза заливало едким, солёным потом, каска съехала набок и с каждым ударом сердца больно ударяла металлическим козырьком по виску. Проклятый мешок сползал с плеча, его грубый, мокрый брезент натирал шею до кровавых ссадин.
Я сделал шаг. Ещё один. Ноги были ватными и не слушались, спина горела сплошным, неумолимым огнём, позвоночник словно налили расплавленным свинцом.
— Твою же мать… — начал я, но слова застряли в пересохшем, распухшем горле, превратившись в хриплый шёпот.
И тогда тьма нахлынула. Не медленно-ползучая усталость, а мгновенный, тотальный щелчок выключателя где-то в основании черепа. Сознание не уплыло — оно рухнуло, словно подрубленное дерево, обрушилось в чёрную, беззвёздную пустоту.
Я не ощутил удара о землю. Не услышал глухого стука покатившегося мешка. Мир просто перестал существовать.