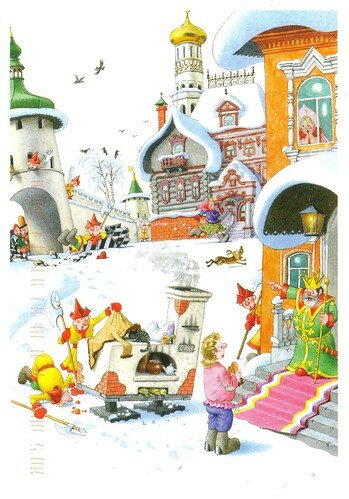Огонь в печи потрескивал, отбрасывая на стены избы длинные, пляшущие тени. За окном выла вьюга и стужа пыталась пробраться сквозь щели, но тёплый, насыщенный запахом сушёных трав и хлеба воздух горницы, надёжно хранил уют. Зорич, укутавшись в овчинный тулуп, притих у ног бабушки Радмилы. Она пряла кудель, и мерный гул веретена казался сакральной музыкой, призывающей к слушанью.- Слушай, внучек, слушай стародавнее, — начала Радмила, и голос её стал низким и заговорным, будто доносящимся из самой глубины времени. — Не всегда солнце правит миром. Приходит пора, когда власть берёт ОНА. Мара. Морена. Тайная Владычица, чьё имя шепотом произносят, чтобы не накликать стужу в сердце.Когда осень выдыхает последнее тепло а день становится короче воробьиного носка, на опушках лесов и в белых полях является Тёмная Дева. Не ищи её телесного лика, дитятко. Она — в первом леденящем ветре, что сбивает с ног, в инее, что узорами смерти ложится на стёкла, в долгой, всепоглощающей ночи. Говорят, в ночь на 21 ноября, врата Нави растворяются, и Мара-девица выходит из своего ледяного чертога, ведя за собой вереницу теней — души не упокоенных и зимнюю нечисть».Радмила понизила голос до шёпота, и Зоричу почудилось, будто за окном мелькнула высокая, бледная тень в развевающихся одеждах из тумана.Люди знали: встречать её надо с поклоном, но и с оглядкой. Выходили они на перекрёстки, к старым, одиноким елям — её деревьям. Несли требы: краюху хлеба, щепотку соли, горсть зерна. Клали у подножия и шептали: «Прими, Морена-матушка, наши дары. Будь милостива, не лютуй зря, скотину не морозь, запасы наши береги». А сами рисовали на дверях мелом или углём косой крест — её знак. Не для красы а как замок от нечисти, что рыскает в её свите. Ибо в эти ночи по дворам бродит Морена, да не одна а с целым воинством морозных духов, что дыханием своим стекло морозят да болезни на людей напускают».А к середине зимы, — продолжала Радмила, и в её глазах вспыхнули отблески тайного знания, — когда мороз сжимает землю в стальные тиски, наступает её великий час. Ночь на 13 января — это её бал, её пир. В эту пору «Мара гуляет». Не иди, внучек, в такую ночь в лес. Даже волки забиваются в глубь чащи, ибо по снежным равнинам проносится сама Владычица Смерти в санях, запряжённых мёртвыми кобылицами, и след от их копыт — это ледяная корка, убивающая всё живое. Ветер — это её песнь, вьюга — её покрывало».Радмила отложила веретено и пристально посмотрела на Зорича.Но наши ведуны, храбрые сердцем, не боялись её. Они использовали её силу. В эту ночь грань между Явью и Навью истончается до паутинки. Смельчаки выходили к замёрзшим озёрам, к «зеркалам Мары». Они прорубали лунку во льду, зажигали свечу из жёлтого воска и, не дыша, вглядывались в чёрную, ледяную воду. И если дух был чист, а сердце бесстрашно, вода могла показать ему тени грядущего. Лик суженой, лицо врага, знак грядущего урожая... Но страшная это была цена — многие, говорят, загляделись в ледяную пустоту и остались там навеки, их души забрала к себе Морена, пленившись их отвагой». Не однажды твой дед Горазд вызволял из объятий Морены и людей и домашнюю скотинку. Вот как сейчас помню эту историю с кузнецом Микоем. Стояла крещенская стужа, что лютее самой Морены в её зимнем гневе. Воздух звенел, будто натянутая струна а звёзды казались осколками льда. Кузнец Микой, парень молодой да плечистый, задержался в кузнице. Чинил он соху для всей деревни, да работа не спорилась — железо на лютом морозе не ковалось а крошилось. А дома ждала его красавица-жена, Олена, с первым ребёнком под сердцем. Поторопился Микой, закончив на совесть. Выскочил из жаркой кузни в ночную хлябь, на ходу запахивая овчинный тулуп. До деревни — рукой подать, через поле да по краешку Соснового бора. Зашагал привычной тропой, насвистывая, чтобы не слышать, как лес поскрипывает на морозе, словно кости старика. Но ночь была не простая. Та самая, когда сама Владычица Зимы выходит на промысел. И тропа, что была ему роднее ладони, вдруг поползла в сторону. Сугробы встали стеной а знакомые сосны обернулись замёрзшими великанами с ледяными бородами. Завертела его метель-оборотень, посланница своей госпожи. И потянуло в лицо Микою не дымком домашним, а ледяным дыханием пустоты.Впереди, в снежном вихре, возникла фигура. Высокая, в белых, струящихся, словно туман, одеждах. Волосы — серебряные пряди инея, лицо — неземной, леденящей душу красоты а глаза… Глаза были как две проруби в озёрном льду — пустые, бездонные и мёртвые. Это была Она. Мара.— Куда спешишь, кузнец? — голос её был подобен хрустальному звону. — Горн твой остыл, огонь твой погас. Иди за мной. В моём ледяном чертоге новые ворота ковать будешь. Вечные. И пошла Она в чащу а ступала не по снегу а по воздуху и следов не оставляла. А Микой, чья сила лошадь на руки поднимала, почувствовал, как ноги его сами понеслись за белой виденьем а воля застыла ледяным комом в груди. В ту же ночь в избу к Радмиле и Горазду ворвалась, запыхавшаяся и бледная, Олена. Упала на колени, голосом прерываясь:— Бабушка! Дед! Спасите! Микоя моего, Мара унесла! Видела в окошко — шёл он а за ним белая тень и оба в лесу сгинули! Верните его, заклинаю!Радмила, не проронив ни слова, мудрым взглядом окинула Горазда. Взгляд его стал острым, как кончик стрелы.— Готовь мать зелье, обережное — бросил он жене. Он не взял ни топора, ни лука. Взял он лишь свой старый, почерневший от времени и дыма нож-засапожник, на клинке которого были вырезаны громовые знаки Перуна да горсть соли и сухих зёрен мака из запасов Радмилы. Вышел Горазд на крыльцо, вдохнул воздух, острый, как лезвие и пошёл не к лесу а к овину. Там он снял со стены старую, отслужившую свой век косу. Железо её было тусклым, но лезвие — всё ещё грозным. С этой косой на плече он и ступил на след Микоя. Он не смотрел на землю — вёл его нюх охотника и древнее знание, что в крови его текла. Метель пыталась ослепить его, завести в бурелом, но Горазд шёл упрямо и прямо, как идут на сечу. В самой глубине чащи, у старого, расколотого морозом валуна, он нашёл их. Микой стоял недвижим, лицо его побелело, борода покрылась инеем. А перед ним, воздев ледяные руки, стояла Мара. Шептала что-то и от её слов снег вокруг кристаллизовался в странные, мертвые цветы.— Стой, Владычица! — громко сказал Горазд и голос его прозвучал как удар молота о наковальню.Мара медленно повернула к нему своё бездушное лицо.— Старик, — прошипела она и воздух застыл. — Не твоё дело. Он мой.— Нет, — твёрдо ответил Горазд. — Он — рода людского. Жена его ждёт, дитя не рождённое зовёт. Не тебе его житью конец класть.И он совершил три действия, быстрых и неотвратимых. Первое. Он бросил под ноги Морены горсть соли — символ земли-кормилицы и сохранения. Соль, коснувшись снега, зашипела, словно раскалённое железо и вокруг на мгновение запахло хлебом и жизнью. Второе. Он взмахнул косой, разрезая невидимые ледяные путы, что сковывали Микоя. Коса — орудие жатвы, символ конца, но и символ цикла, что всегда начинается вновь. Третье. Он швырнул в сторону маковые зёрна, прошептав: «Сон для тебя, Госпожа, не для него. Возвращайся в свой чертог. Сила твоя в своём круге, а не в нашем».Мара отпрянула. Её белый стан содрогнулся. Она не была побеждена — сила её была велика. Но старый страж, не дрогнувший перед её ликом, действовал по древним заветам, что были старше и её и его. Он не нападал — он восстанавливал порядок.— Ладно, — проскрипела она и голос её был похож на треск ломающегося льда. — Забирай своего кузнеца. Но помни, старик, я ко всем приду. Рано или поздно. И она растаяла в метели, оставив после лишь пронизывающий холод и горький запах мёрзлой полыни. Горазд подошёл к Микою, хлопнул его по щеке жёсткой рукавицей.— Очнись, кузнец! Домой пора. Микой вздрогнул, качнулся и откашлявшись ледышками, сделал первый шаг к дому. Он был жив. Он был спасен.А наутро в кузне Микоя снова пылал горн а в доме его пахло тёплым хлебом и слышался счастливый смех Олены. Но с той поры кузнец никогда не задерживался в кузне, когда ночь опускалась на землю в те студёные вечера, что принадлежат Морене. Ибо знал он, что у Стужи есть своя воля а у Жизни — своя. И старик Горазд, что вышел на бой с косой в руках, напомнил об этом обеим.Но ничто не вечно — голос Радмилы вновь стал тёплым и убаюкивающим. — И могущество Мары не вечно. Ближе к весне, на Масленую неделю, люди начинали её провожать. Это был не бой, не изгнание а... напоминание. Мы помним о тебе, но твой срок истёк».Делали из соломы чучело — образ Зимы-Смерти. Наряжали его в рваньё, в руки давали сосульку. А потом несли его на околицу и сжигали на огромном костре. Это был не акт ненависти а обряд преображения. Пламя пожирало соломенную Морану и люди верили, что вместе с дымом уходит её зимняя мощь. Кричали: «Гори, зима лютая! Гори, Морена!» А пепел развеивали по полю, чтобы сила смерти перешла в силу будущего плодородия».И в самую главную ночь, на весеннее равноденствие, случалось великое таинство. Мара, сбросившая ледяной облик, становилась... прекрасной Девой Весны. Её тёмные одежды превращались в зелёные рубахи а в руках вместо ледяного посоха появлялись первые цветы. Так наши предки видели: нет смерти без возрождения, нет зимы без весны. Мара и Жива — это две сестры, две стороны одной Великой Богини».Радмила замолчала. В горнице было тихо, лишь потрескивали поленья. Зорич сидел, заворожённый и ему чудилось, что за стенами избы всё ещё бродит величественный и грозный дух Зимы, но теперь он был ему не страшен а понятен.«Вот так, внучек, — тихо заключила старуха. — Мы не боролись с Ней. Мы принимали Её. С почтением и с благодарностью. Ибо Она учила нас самому главному — что всему приходит конец, чтобы дать начало чему-то новому. И в этом — великая мудрость и великая тайна».И в самую главную ночь, на весеннее равноденствие, начинался Новый год, новая жизнь.Радмила умолкла, давая внуку прочувствовать каждое слово. Огонь в печи уже догорал, отбрасывая на стены последние, трепетные тени. Но в горнице повисло не молчание а ожидание — то самое, что бывает перед самым важным.А потом, внучек, случалось Великое Чудо, — голос её стал звонким и торжественным, будто зазвенела первая капель. — Та ночь, когда тьма и свет становились равны, была не просто днём календаря. Для наших пращуров это и был истинный Новый год — рождение нового Солнца-младенца Ярилы и всей вселенной».. — Запомни, внучек, раз и навсегда: в ПриРоде всё циклично. Всё возвращается на круг свой. По сему, ежели ты с ней в ладу, в гармонии пребываешь — ты не будешь в нужде и болезни. Ибо нужда — это когда ты плывёшь против течения реки а хворь — когда ты глохнешь к её голосу.Она пристально посмотрела на Зорича, и взгляд её будто проникал в самую суть вещей.— Ни один царь, сколь бы могущественен он ни был, ни один его указ не может отменить природных циклов, шагов её по земле-матушке. Не прикажешь ты реке течь вспять, солнцу — встать на ночь а зерну — прорасти в стужу. Не может земля в лютую зиму родить. Любому семени свет и тепло нужны. Потому у нас, славян, всё циклично и было: и жизнь, и смерть, и труд, и праздник. И всё новое начиналось после зимы, весною — начало года, начало новой жизни. Это правило — нерушимо. Оно — сама суть бытия. Его не под силу изменить никому.Она помолчала, давая внуку впитать эту простую и великую истину.— А вот когда люди, возомнившие себя царями природы, начинают ей, матери, свои законы навязывать... — голос Радмилы стал глубже, в нём зазвучала старая, как мир, печаль. — Вот тогда и начинается смута. Они свою малую, человеческую энергетику пускают в резонанс с силами земли. Толкают её, пытаются переломить. Строят каменные стены там, где должны быть луга, роют ямы там, где должны бить ключи, сеют там, где земля спит.Она подняла руку, словно взвешивая что-то на ладони.— А теперь скажи мне, Зорич, подумай сам: у кого, как ты думаешь, больше силы? У человека, что на земле гостит, или у самой Матушки-Земли, что его и Род его, и все царства его носит на себе?Ответь. У того ли, кто может срубить дерево? Или у того, кто вырастит на его месте лес? У того, кто может выкопать колодец? Или у того, в чьих недрах рождаются целые океаны? У того, кто может построить город? Или у того, кто одним движением, одним вздохом — землетрясением, потопом, засухой — обратит этот город в прах и пыль?Человек — дитя Земли. Он может быть умным, талантливым, сильным дитятком. Он может украсить её, понять её, жить с ней в ладу. Но он — дитя. А мать — всегда сильнее. Её сила — в её необъятности, в её терпении, в её вечности. Её сила — в самой жизни, что течёт в её жилах реками, дышит в её лесах, зреет в её полях.Когда человек живёт по её законам, он — как мудрый управитель в доме отца. Он в ладу, он под защитой. Когда же он идёт против — он подобен комару, что кусает слона. Слон, быть может, даже не заметит укуса. А может — и хвостом махнёт.Так и Земля. Она может терпеть долго, очень долго. Но если резонанс человеческого безумия станет слишком сильным, она сбросит его с себя, как стряхивают назойливую мошкару. Не со зла, не с гнева. А просто — по закону своему, по закону равновесия, который древнее всех людских указов.Потому и жили мы в ладу с ней. Потому и слушали её голос в шелесте листьев, в песне ручья, в дыхании ветра. Не из страха. А из понимания. Из уважения. Ибо сила наша, человеческая, — в том, чтобы быть частью её великой силы, а не идти против неё. Вот в чём главная мудрость. Вот в чём наш, славянский, путь.Радмила отложила веретено и в тишине горницы её слова прозвучали с той неспешной мудростью, что копилась веками в роду, словно мёд в улье.Представь, — шептала Радмила и её слова словно ткали в воздухе картину — глубокая ночь. Снег ещё лежит, но он уже не скрипит злобно а поёт хлюпая под ногами весеннюю песню. Небо — чёрное, усыпанное самоцветами звёзд но на востоке уже таится намёк на свет. И как только первые петухи спели. В эту ночь мир замирал на острие ножа. Власть Мары-Зимы трещала по швам но ещё не была сломлена. А сила Живы-Весны уже шла из-под земли но ещё не явила себя. И вот, в самую полночь, люди выходили из своих тёплых изб и шли на самое высокое место — на холм над рекой или на священную поляну в лесу. Они несли с собой не оружие и не страх. Они несли огонь.Глаза Радмилы вспыхнули, словно отражая те самые, давние костры. Старший в роду, хранитель традиций, высекал живой огонь — трением двух особых пород дерева. Это было не просто пламя для тепла. Это была искра самого Сварога, посланная с небес, чтобы зажечь новое солнце. И когда первый язычок огня вспыхивал, по толпе проносился единый вздох — рождение надежды. От этого священного огня зажигали огромное колесо — сплетённое из соломы и смолы. Раскалённое, пылающее колесо поднимали на шестах и с песнями несли к реке. А там — катили его с крутого берега в воду!Радмила сделала паузу, давая Зоричу увидеть это зрелище. Пламя шипело, встречаясь со льдом, пар поднимался к небу столбом а люди кричали: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло!» Это было символом — уходящий год, как то колесо, сгорал в водах вечного времени, очищаясь и давая место новому. И в этом столбе пара и огня наши предки видели мировое древо, соединяющее Навь, Явь и Правь в эту волшебную ночь. А потом все, от мала до велика, начинали прыгать через костры. Не для забавы! Это был обряд очищения. Огонь сжигал все хвори, все грехи и напасти старого года. Девушки прыгали, чтобы быть красивыми и здоровыми, парни — чтобы стать сильными и удачливыми. И даже старики, с помощью детей, переступали через огонь, чтобы прожить ещё один цикл.И когда на востоке появлялась первая, робкая полоска зари, все замирали. Они встречали первый восход нового Солнца — младенца Ярилы. Падали ниц перед его живительной силой и благодаря его, умывались талой водой с последнего снега — для красоты и здоровья. А потом…Радмила улыбнулась самой доброй, светлой улыбкой.…Начинался пир на весь мир! Выносили всё, что осталось от зимних запасов — ведь начиналось новое, свежее лето. Пекли особые, солнечные блины — «комы», похожие на наше дневное светило. Ходили друг к другу в гости, мирились, если были в ссоре, ибо в новый год нельзя входить со старыми обидами. Дети бегали по дворам, будили соседей весёлыми песнями-«веснянками», и их одаривали угощениями». В этот день запрещалось работать, грустить и ссориться. Можно было только радоваться, петь и славить богов и предков, которые подарили миру ещё один виток жизни. Старое умерло. Новое родилось. И каждый человек, от мала до велика, чувствовал себя частью этого великого круговорота, винтиком в огромном и прекрасном механизме Вселенной».Радмила замолкла. Рассвет уже брезжил за окном, пробиваясь сквозь морозные узоры. Зорич сидел, не шелохнувшись и в его сердце, вслед за зимней тайной Морены, расцветала новая, светлая тайна — тайна вечного обновления, в котором его собственная жизнь была всего лишь одним, но таким важным днём.В домах гасили старый огонь и разносили новый живой на котором и томили пищу а не варили как сейчас И если вдруг в течении года кто то захворает тотчас гасили огонь и приносили вновь зажженый трутом, живой огонь.Радмила кивнула, видя, как глубоко запали её слова в душу внука. Она поправила платок и продолжила, её голос приобрёл оттенок сакральной, почти магической значимости.Верно, внучек. Огонь в печи — это была не просто искра для тепла да стряпни. Это была душа дома, его животворящее начало, прямая нить к самому Сварогу-Небесному Кузнецу. И обращались с ним подобающе».Его берегли пуще глаза, поддерживая в очаге тлеющие угли, не давая умереть. Ибо это был не просто огонь — это был хранитель лада в семье, залог здоровья и благополучия. На нём не просто «готовили». На нём «томили» — щи в глиняном горшке, кашу в чугуне. Пища, приготовленная на таком огне, вбирала в себя не только жар, но и силу рода, его благословение. Она была... живой». Но раз в году, в ту самую ночь весеннего равноденствия, этот старый огонь целиком гасили. Выгребали все угли, заливали их, засыпали землёй. Дом погружался во тьму и холод. Это был акт великого очищения, символ умирания старого мира. А потом, как ты помнишь, от общего, живого огня, добытого трением, в дом приносили новое пламя. И первая пища, сваренная на этом огне, была подобна священной трапезе, вкушая которую, семья впитывала в себя обновлённые силы на весь грядущий год».А если в дом приходила беда, — голос Радмилы стал тише и таинственнее, — если кто-то из домашних «недугом лёг», чах, болел без видимой причины, то мудрые хозяйки не бежали сразу за знахаркой. Первым делом они смотрели на огонь в печи. Считалось, что хворь, порча, сглаз — всё это нечистое могло «прикипеть» к домашнему огню, отравляя его, а через него — и всех жильцов. И если подозревали такое, то поступали так же, как и в Новый год — огонь гасили. Полностью. До тла. Выметали печь начисто, с молитвой, выгоняя из неё всю скверну. А потом шли к деревенскому огнищану — старцу, хранившему секрет добывания «живого» огня. Он в тишине и сосредоточенности, с чтением древних слов-заклинаний, тер одно сухое древо о другое, пока не появлялась драгоценная искра. Её ловили в трут — сухой мох или берёсту — и раздували в чистое, яркое пламя. Этот новый, девственный огонь несли в дом, словно лекарство. Разжигали им печь заново. И первое, что на нём готовили, был не хлеб и не щи, а особый отвар — из целебных трав, собранных в полнолуние, или просто воду, которую потом давали пить больному. Люди верили, что такой огонь, рождённый силой трения, силой человеческой воли и заговорённый древними словами, обладает огромной очистительной силой. Он выжигал болезнь не только из тела, но и из самой души человека, из атмосферы дома. Он был подобен молнии Перуна, поражающей нечисть. И часто одного этого обряда хватало, чтобы хворь отступала, не вынеся соприкосновения с этой первозданной, животворящей стихией.Радмила замолчала, глядя на тлеющие угольки в печи. Казалось, она сама видела в них отголоски того самого, живого огня.Вот так, Зорич. Для нас, старых, всё в мире было связано. И огонь в печи, и болезнь в теле, и солнце на небе. Всё было частью одного великого целого. И чтобы исцелить одно, порой нужно было очистить другое. Запомни это. Сила — в единстве а не в раздробленности».