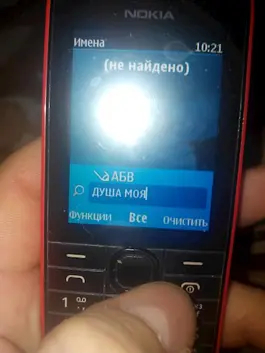В темноте пахло прелым, застарелым потом и горечью. Было душно, но устьица по бокам закрытого хитиновыми щитками тела всё равно активно втягивали кислород. Ей нужно движение, чтобы жить. Ей? Почему именно ЕЙ?
Тут недостаточно влажно, недостаточно тепло. Трое, не избалованных сытой жизнью мужчин это мало, слишком мало для согретого разложением гнезда. На языке привкус крови. Она хорошо ориентируется в темноте, но почти ничего не видит своими маленькими глазками, полагаясь на слух и ловкие быстрые лапки. Двое уже иссушены, к проклятому, прозванному Мазаром месту никто не осмеливается подойти, а она слишком слаба, чтобы ЗВАТЬ.
Спать… как хочется спать…
Она присасывается к парализованному, ещё хватающемуся за жизнь юноше и уходит в длительную…
– Очевидным кандидатом на приз за самую долгую спячку будет соня-полчок. – Даха очнулся ото сна, по телевизору шла передача о животных. – Эти грызуны могут оставаться бездействующими более одиннадцати месяцев. Чтобы выдержать такую «паузу», они должны удвоить или даже утроить вес своего тела, пока активны! – на экране показали милого пушистого зверька с выпученными чёрными глазками.
Дома Айдахар остался лишь с сиделкой. Остальные члены семьи уехали договариваться с рестораном. Ясмине исполнялся год, и она уже давненько поднималась на ножки, делая первые шаги, поэтому в день её рождения было решено провести обряд перерезания пут[1].
К тому же на праздник должны были приехать родственники, и особенно ждал Айдахар приезда прадедушки, который жил на другом конце страны и имел в семействе статус Аксакала[2].
Талгат разменял десятый десяток, имея количество прожитых лет равное девяносто одному. Благо он всегда был человеком строгим к себе и другим, каждое утро про сию пору делал зарядку и ему никто не давал даже восьмидесяти. Единственное, что выдавало возраст – полное отсутствие зубов и редкие белые волосёнки на макушке в старческих пятнах. Увы годы всё равно нет-нет, да и брали своё. Каждые полгода ложился Талгат в больницу то с давлением, то с желудком.
И тем не менее, обладая природным упрямством Талгат категорически отказывался «потреблять химию»
– Вот сколько мне Аллахом отпущено, столько и проживу! – говорил дедушка.
Однако это не мешало ему принимать в госпитале капельницы.
В воздухе витал запах сладкой сирени и терпкой акации, желтели в нестриженых газонах головки одуванчиков. Дедушка ехал в машине такси, которой правил один из его многочисленных правнуков.
– Талгат-ата, приехали, - сообщил внук, остановив машину.
Он выбрался из-за руля и открыл аксакалу дверцу. Дед вставил вначале красивую резную с национальными мотивами клюку красного дерева, затем ухватился за руку водителя и вышел из машины.
У подъезда его встретила не знакомая женщина в медицинской пижаме.
– Здравствуйте! - поприветствовала она. – Я Мольдир, сиделка Айдахара. Хозяева попросили встретить Вас, ата, они в пробке застряли.
Дед был этим не доволен, но виду не подал. Мольдир подхватила его под руку и проводила в квартиру. Талгат умылся с дороги, попросил чаю, а сам пошел в комнату к Дахе.
– Псмля! - воскликнул возмущённо дед, войдя в комнату. – Склеп больничный, а не дом! Издеваются что ли над инвалидом?!
Он подковылял к табурету у изголовья кровати и, кряхтя, сел.
– Ну здравствуй, балам, - улыбнулся он и погладил внука по отросшим рыжим волосам.
Айдахар заулыбался, в уголках глаз заблестели слёзы.
– Ой-бай, не плачь, - дед и сам прослезился. – Положение, конечно ужасное, но мне сказали, что ты уже на поправку идёшь. Голову повернуть можешь.
«Как бы я хотел Вас обнять, дедушка!» - думал он и изо рта его раздался вой.
Подумав это Даха ощутил, как наливаются силой мышцы спины (которых не чувствовал с момента своего трагического падения) рук, а затем что-то подкинуло корпус парня и через секунду он уже крепко сжимал Талгата в объятьях.
– Господи! – воскликнул дед от неожиданности. – Мольдир! Мольдир!!!
В комнату вбежала Мольдир с вазочкой тростникового рафинада. Увидев, что происходит она выронила вазочку, рафинад рассыпался по полу.
Зара смахивала метёлкой пыль с фотографий. На стене их висело множество:
Вот Кенес Идёт в первый класс в школу при мечети. Так отец хотел. Вот оканчивает её и уже поступает в Медресе по собственному почину.
Зара очень гордилась братом, по его примеру покрыла голову, изучала писание и всей душой любила Аллаха и Пророка его.
Кенес уехал. А Зара очень сильно переживала за него. Она сняла со стены последнюю из фотографий брата. На ней, улыбающийся Кенес стоит перед белоснежной в золоте новой столичной мечетью. На нём белый традиционный костюм, голова покрыта такиёй.
Зара улыбнулась улыбающемуся ей с фото брату, и внезапно по стеклу молнией расползлась трещина, перечеркнув изображение по диагонали.
– Дальше не пойдём! – Кулан остановился как вкопанный.
– Что-то случилось? – спросил Амир, и поймав на себе осуждающий взгляд Каната прибавил: – Мой Пир…
– И что? – не понял Амир.
– Безлунная ночь, - повторил Кулан и развеялся по ветру.
– Так, а я не понял, - озадаченно проговорил Амир, когда от Кулана и тени не осталось. – Это хорошо или плохо?
– Это… сытно, - ответил ветер.
В яслях буйным цветом цвела пушистая плесень. Пахло отвратительно, навозом, затхлостью и… тухлыми яйцами.
– Это так после священника стало? – удивился Кенес.
– Сделать можно с этим что-нибудь? –поинтересовался Федот. – У меня у двух тёлок молоко пропало, а у прочих кефир из вымени течёт!
– А коровы что, всё-ещё здесь? – округлил послушник глаза.
– Да нет, конечно, - махнул фермер рукой.
Кенес походил по зелёно - белому ковру пеницилловых грибов. Пошептал в углы что-то неразборчивое, затем достал телефон и снял видео.
– Что же, - сказал, закончив. – Я должен провести молитвенные бдения.
– От и хорошо, - потёр руки воодушевившийся отчего-то Федот.
– Не сейчас, - Мюрид поднял руку.
Он показал на малюсенькое окошко, где видно было закатывающееся солнце.
– Наступила священная пятница!
Ясмина, не смотря на своё заболевание, была девочкой любознательной и имела пытливый ум. Когда её приносили в комнату к старшему брату она постоянно крутила и трогала блестящие шляпки болтов кровати, пыталась нажать на кнопки привода спинки, тянулась ручками к медным волосам парня, а тот лишь пыхтел и выкатывал на девочку голубые глаза.
В прочем, глаза его за последние месяцы сильно потемнели, и были даже не синими, цвет близился к тёмно-синему, почти чёрному. Малышка конечно же ещё не осознавала этих изменений, любила весь белый свет, а особенно такого красивого, но не весёлого старшего брата.
Наконец-то Кайра получил подтверждение того, что Даха может двигаться. Теперь он победоносно прокатывался мимо сидящего в саду на коляске Дахи и ехидничал:
– Врёшь небось, чтоб жалели…
«Не проецируй на меня своих печалей, долбан» - думал Айдахар.
Кайра предусмотрительно держался на расстоянии, чтобы приятель не мог дотянуться до него не то, что рукой, но даже ногой.
– Ойййй, как бы я хотел, чтобы ты мог поговорить со мной,- Кайра остановил свою электроколяску под яблоней и треснул по той рукой, от чего полетели белые лепесточки яблонего цвета.
«Дааа, я б тебе сказал пару ласковых» - тоже замечтался Даха.
Дедушка крайне возмутился и негодуя накричал на Бекира за то, что Айдахара не привозят есть за семейным столом.
– Позор! Позор! – распалялся Талгат по-казахски. – Это ведь твой сын! Когда ему нельзя было сидеть, это я ещё понимаю, но сейчас он может кушать со всеми! Или что, раз инвалид теперь и отречься от него можно? А?!
– Что вы, Талгат-ата,- вяло возражал Бекир. – Я и не думал… конечно-конечно мы сейчас же его привезём!
Кайра, которого, к слову тоже пригласили к столу, глядел на Талгата с восхищением, по-детски открыв рот.
Так и пообедали. Ясмина – сидя в детском стульчике, её кормила с ложечки Оля, Даха в коляске, которого кормила Мольдир, Талгат во главе стола, уступивший ему место Бекир и влюблённый в дедушку Кайра.
Эта ночь действительно была одной из самых тёмных на памяти Амира. До заката Ата, оглядываясь на солнце гонял внука по степи, и требовал собирать травы, названия которых юноша не знал. На закате разожгли костёр, расплавили добытый с боем воск шмелей. Амир даже и не знал, что шмели тоже способны делать восковые соты. Двоедушника ужалили в висок и руку, было больно, теперь места укусов вспухли и затвердели, а под кожей что-то жарко пульсировало. Амир побоялся, что у него может случиться аллергия, но Канат успокоил его сказав, что последствия перетянет на себя Пир, который, хоть и не рядом, но конечно же знает о боли своего питомца.
Вокруг кибитки, захватив и костёр, выложили круг из скреплённых между собой воском трав. Дедушка строго-настрого наказал Амиру не покидать круга, что бы тот не услышал и не увидел, всю ночь не смыкая глаз подкидывать хворост в огонь, а как только зардеется на востоке ложиться спать.
– А нельзя заговорить огонь, чтобы он не тух всю ночь? – спросил баксы.
– Нельзя ворожить в безлунную ночь! – отрезал дед.
К полуночи Амир подложил очередную порцию хвороста в огонь и спрятался в кибитке от назойливых кровососущих насекомых. Он лёг, подложив под голову скрученное лоскутное одеяло. Не укрывался намеренно, чтобы холод не дал заснуть. Юноша поднял согнутые в локте руки и стал повторять волнообразные движения. Очень скоро он почувствовал, как окружающий мир отплывает на задний план, словно бы погружая Амира в сон, но при этом он сосредоточенно двигал руками и видел лишь этот танец. Из транса вернул его голос деда:
– Отлично, ты склонен к самогипнозу!
Амир перевернулся на бок.
Ата сидел у костра, юноша видел лишь тень.
– Ты можешь входить в контакт с Пиром без музыки, не вовлекая в танец призыва всё тело, не подпитываясь травами и растениями, - пояснил он.
Мошка и комарьё бились в ткань кибитки, звенели крыльями. Пламя костра освещало лишь одну из стен. Амир всё-таки укутался одеялом и лежал на тонком коврике, который постелил на брезентовый пол. Он глядел за тенями насекомых, деда, что обходил защитный круг, слушал треск пожираемых огнём хворостин. Веки тяжелели от усталости. Амир уже почти сомкнул их, когда резко стихли все звуки, словно кто их выключил.
Юноша захлопал глазами, потёр их кулаками, а затем поглядел на освещённую стенку.
Изящная тень женской руки двигалась по ткани. Раз, и из пальцев с металлическим лязгом длинными спицами выскочили когти. Амир зажмурился, а когда вновь открыл глаза никого рядом не было. Насекомые снова лупились в брезент, а костёр трещал.
Двоедушник осторожно выглянул наружу. Дед сидел у огня. Парень взял одну тонкую веточку из кучи, сел на песок и кинул её в огонь.
– Только что,- начал он не громко после молчания, но дед перебил:
– Некоторые из них – чудовища…
Обыкновенно девочкам перерезали путы уважаемые женщины рода. Но, к сожалению, даже бабуля Сая была не слишком достойной для девочки, которой уже перепало на долю испытание. Бабушка Сая в молодости, да и сейчас не отличалась, что называется «стержнем». Поэтому вопреки обычаям путы доверили резать достойнейшему из рода – Талгату.
Он не приемлил никаких покупных перевязок. Велел каждой женщине, девушке, девочке семьи сплести по нитке и из них, из этих ниточек, связали трёхцветный жгутик.
Белые нитки символизировали чистоту – их плели молодые девушки, не знавшие мужчин и девочки.
Зелёные – крепкое здоровье. Их доверено было сплести дородным, крепким женщинам.
Красные – финансовое благосостояние. Плели их сёстры Кункей и Кундуз, которых природа не наградила ни фигурой, ни внешностью, зато одарила просто акульей хваткой в делах финансов. Они даже добавили от себя золотистые ниточки, чтобы усилить эффект.
В вечер накануне праздника жгутик и специально купленные серебряные ножницы положили в деревянную шкатулку на красную бархатную обивку, оставили на столе для подарков в ресторане и спокойно ушли.
В этой ночью Даха спал беспокойно и видел сон:
Он встал с постели, словно не было трёх с лишком лет паралича. Накинул на себя одеяло, перехватив концы на шее и между ног, затем подошел к небольшому настенному зеркальцу. Он не узнал себя. Глаза – словно бурый лес в объятьях хрустального озера, а вовсе не голубые, как было прежде. Улыбка приобрела некоторую хищность, и даже выбритый перед сном Молдир подбородок стал более острым, чем был обычно. Задерживаться у зеркала не стал. Открыл настежь окно и выпрыгнул на улицу.
Было холодно, босые ноги шлёпали по влажному от небольшого вечернего дождика асфальту. Где-то вдали ругалась и спорила подвыпившая компания. Даха застыл на секунду, затем пошел на голоса.
«Зачем я туда иду?» - подумал парень. – «Я же сейчас точно получу на орехи!»
– Что такое орехи? – внезапно заговорил он вслух.
Даха опешил. Такой странный сон. Такой реалистичный.
Он двинулся дальше, с каждым шагом приближаясь к гомонящим пьяницам. Издали ещё было понятно, что они обсуждали девушек с заниженной по их мнению социальной планкой. Их было трое и все трое имели весьма маргинальный вид. Пропитые, одутловатые лица, у каждого подправлено количество зубов (очевидно споры иногда кончались дракой). На скамейке перед ними на расстеленной замызганной газетке стояла пластиковая поллитровка с мутноватой жидкостью, а подле неё наломанный подсохший хлеб и располовиненная луковица. Один из выпивох сидел на корточках прислонившись спиной к фонарному столбу, двое же других горячо обсуждая выброшенный кем-то за ненадобностью порножурнал нарушали спокойствие.
Поглядев на компанию пребывая в тени, Даху внезапно скрутил рвотный позыв, он подбежал к мусорной урне и изверг в неё чёрную, с прожилками бурого слизь. Она залила лежащие в урне пустые стеклянные бутылки и алюминиевые банки. Айдахар отдышался, вытер рот уголком одеяла и двинулся дальше.
По телевизору снова крутили какую-то галиматью. Ночной сторож ипподрома Нияз сонно потянулся, подцепил из початой пачки папироску и вышел из каптёрки на улицу. Прохлада бодрила. Он закурил. Никотин заполнил лёгкие, выгнал из организма остатки сна. От конюшни послышалась возня. Нияз стиснул зубами папиросу, потянулся за ружьём и двинулся на звук. Лошади всхрапывали и фыркали за закрытыми воротами, рядом никого было не видать. Нияз сунул ключ в замочную скважину, отпер конюшню, вошел и включил освещение. Кони затоптались в денниках. Сторож подошел к Лужку, Орловскому рысаку в яблоках, тот стриг ушами, пуская пену и раздувал ноздри.
Нияз поцокал языком, почмокал губами, чтобы успокоить коня. Все лошади были неспокойны, никто не спал. В самом конце длинного коридора был денник Вампира. Лихого, лютого жеребца отчаянно вороного окраса. Нияз заглянул к нему и ахнул:
Бесстрашный конь, хозяином которого был такой же лютый Казачий есаул, жался к стене, словно хотел выдавить её наружу, был всклокочен, выкатил карие глаза, пускал пену и вспотел, словно только со скачек.
Странный сон. Даха подошел к запертой конюшне. Поковырял ворота ногтем, а затем присел на корточки и пролез в щёлку под ними, в которую, наверное, не могла бы протиснуться даже мышь.
Внутри ему в ноги тут же бросилось похожее на клубок шерсти существо. Оно подкатилось на расстояние шага, затем подскочило, выпростав из мохнатого круглого тельца тонкие руки и ноги. Головы у существа не было, глазки-бусинки колко глядели прямо из покрывающего тело меха.
Существо встало в стойку, похожую на бойцовскую, зарокотало, правая рука преобразовалась в покрытую костяными наростами грабку, вроде гребня для волос, левая – в такой же костяной скребок. Зашипев существо бросилось в атаку, но было сметено явившимся из-под одеяла тонким длинным хвостом, увенчанным изящной женской кистью, с длинными грязными ногтями.
Комок шерсти уцепился гребнем в хвост, и Даха ойкнул от внезапного укола. Женская рука на конце вывернулась и сжала мохнатое тельце. Поднесла барахтающееся и визжащее от страха существо к глазам, затем руки Дахи схватили его за ноги и вырвали те с корнем, забрызгивая всё вокруг желтоватой кровью.
– Добрый конь! – Харунжий был из характерников, каждый казак в станице к нему шел, когда приходило время выбирать коня. – Лихой, гордый! Тебе такой и нужен, Есаул! Бери! Бери, за ценой не стой. Отдавай деньги с левой руки, не жалея! Добрый Конь!
– Кличут по-бесовски, – сплюнул в пыль Есаул. – Вампиром…
Харунжий огладил чёрные усы, стоя рядом с Есаулом у загона, где бесновался вороной конь, затем поманил к себе товарища и негромко сказал:
– Сделаю тебе подарок перед отъездом, зайдёшь ко мне в дом, как коня купишь…
По вечеру Характерник передал Есаулу туесок, с наказом открыть его только в деннике Вампира.
Когда Есаул открыл плетёный короб, то едва не выхватил из сапожных ножен охотничий нож. Мохнатый клубок выпрыгнул из своего вместилища, выпростал из шерсти руки и подбежал к конским ногам. Вампир не напугался, лишь подсадил к себе на спину существо согнув переднюю ногу в колене и подтолкнув его мордой.
Комок тут же принялся оглаживать и причёсывать коню гриву, и тот в скором времени блаженно закрыл глаза.
«Там, куда ты едешь эту нечисть кличут Тагаем. Возьми его с собой, все будут говорить ''Заговорённый твой конь'', в огне не сгорит, в воде не потонет, лихого человека от коня отвадит, пособлять будет во всём!»
Отброшенный в угол маленький воин затих.
Айдахар ужаснулся… Какая мерзость! Он огляделся и двинулся вдоль денников разбуянившихся напуганных лошадей к загону единственного в конюшне вороного жеребца.
Лошадь заржала от испуга, забилась, вжала в стену лоснящееся крепкое тело, но Даха протянул руку и вырвал из хвоста животного несколько волосков.
Теперь же, он шлёпал по городскому скверу и сплетал из волосков некое подобие тонкой верёвки. Странно, Даха никогда даже фенечек не плёл, откуда такая ловкость и сила в пальцах? Он не заметил, как подошел к ресторану с названием «Ак Жол»[3].
«Тут что ли должны завтра день рождения отмечать?» - не успел подумать Айдахар, как уже протиснулся в едва приоткрытое для проветривания подвальное окошко прямо сквозь оконную решетку.
Деревянная шкатулка стояла одиноко на круглом ресторанном столе. Зал был украшен шариками, плакатами с надписью вещавшими, что Ясмине 1 год, на прочих столах уже были расстелены скатерти и стояли в центре искусственные цветы.
«Дедушка не любит ничего искусственного» - заметил Айдахар.
А тем временем его руки открыли шкатулку и вплели в праздничные символические путы чёрную верёвку из конских волос.
– Вы должны помнить, что важно равновесие, - проговорил Даха вслух. – Снежный – чистота, начало новой жизни; свежие травы – здоровье; кровавый – к приросту в твоих землях… сырая земля – смерть.
«Memento mori» - подсказал мысленно Айдахар.
– Хорошо сказано! Хотя я и не знаю, что это означает…
– Почему некоторые из Пиров – чудовища, дедушка?
– Из-за своих Баксы, – погрустнел Аташка.
– Как это? – опешил Двоедушник.
– Ты в начале пути, сынок. Каким ты станешь шаманом только предстоит узнать. Кто-то проходил с Пиром всю жизнь не запятнав себя злодеяниями; другие же – едва заимев силу используют её во зло.
– А … Это они становятся слугами Хасатана?
– Порой, - согласился дед. – А когда и сами берут себе в услужение детей Хасатана, но в любом случае участь их незавидна… Не стоит поминать такое в Безлунную ночь, Амир.
– Ветер сказал “сытно”,– задумчиво спросил он. – Это значит, что кого-то едят?
Эти ночи случались не каждый год, не каждое десятилетие. И даже не в каждом веке случалась такая. Ночь, когда гасла луна и всякий рух, Хасатанов сын и даже Пир выходил получить крови. Баксы, ведающие матери, колдуны в эти ночи не ворожили, но и не каждый готов был отпустить своего покровителя на охоту. Те из них, кто опасался человеческой жертвы обычно запирались в пещерах за шаманскими печатями и потчевали духов вдоволь скотской кровью. Другие же запирали сами себя, дав рухам волю. Горе тому, кто в безлунную ночь останется в Великой Степи без крова.
Зловредный гнус напугал телят и те убежали к водопою. Войдя по горло в студёную воду телки́ спасались от насекомых. Ера, подпасок, отправился за ними. Вскочил он на рассёдланную кобылу и пустил её галопом.
Едет час, едет два, темень. Только неверный свет запылённых перистыми облаками звёзд освещал дорогу. Видит – вдали отражает небо, бликует чуть заметно водопойное озерцо, а посередине его трое заблудившихся телков мычат так жалобно.
Подъехал Ера к озерцу и кличет телят. Те не идут. Обогнул Ера водопой с другой стороны и снова кличет. Не идут. Не хочется мальчишке мочить конские бабки в студёной воде, не хочется и самому ног замочить. Достал он камчу и хлыщет ей, щёлкает по воздуху, чтоб выгнать упрямых телков из воды. Те мычат, вздрагивают от испуга и не идут. Между тем тьма стала густая, как наваристая остывшая шурпа.
Слез Ера с кобылы, смочил в воде пересохшие губы и стал думать, как ему телят выманить. Слышит – стихло всё вокруг. Не стрекочет в траве саранча и сверчок, не звенят крыльями комары и мошки, даже ветер стих, не колышет травы.
Огляделся Ера, никого не видать. Только темень подступает к нему ближе и ближе. Телята молчат, боятся вдохнуть. Кобыла тоже замерла, даже хвостом не шевельнёт.
Тут только понял Ера, что что-то не ладное творится. Вскочил на кобылу и ну её за повод дёргать, да пятками по бокам лупить. Та не шелохнётся.
Оглянулся подпасок, а тьма совсем уже рядом, залила кобыльи копыта и в тьме той, отражаются мириады небесных светил, словно рассыпанный жемчуг. Закричал парнишка, спрыгнул на землю, хотел было побежать к аулу, но песок под его ногами расступился, и ноги увязли.
А ползущая по степи тьма обрела очертания. Силуэты женщин, мужчин, зверей с горящими голодом глазами.
Наутро подпаска искали уже всем аулом. Нашли лишь замёрзших до смерти в воде телят, лежащую на боку околевшую кобылу, а у её копыт обуглившийся, запачканный подсохшей кровью тумар.
– Вжуть, – Амир жевал вяленное мясо, греясь у огня. – Давже кофтей не офтавили…
Он проглотил еду, поставил к огню закопчённую алюминиевую кружку и налил в неё воды из бутылки.
– Но почему его отправили за телятами? – недоумевая спросил парень.
– Баксы в том ауле видимо был из тех, кто не пускал Пира на охоту, - ответил Дед.*
Эти ночи случались не каждый год, не каждое десятилетие. И даже не в каждом веке случалась такая. Ночь, когда гасла луна и всякий рух, Хасатанов сын и даже Пир выходил получить крови. Баксы, ведающие матери, колдуны в эти ночи не ворожили, но и не каждый готов был отпустить своего покровителя на охоту. Те из них, кто опасался человеческой жертвы обычно запирались в пещерах за шаманскими печатями и потчевали духов вдоволь скотской кровью. Другие же запирали сами себя, дав рухам волю. Горе тому, кто в безлунную ночь останется в Великой Степи без крова.
Зловредный гнус напугал телят и те убежали к водопою. Войдя по горло в студёную воду телки́ спасались от насекомых. Ера, подпасок, отправился за ними. Вскочил он на рассёдланную кобылу и пустил её галопом.
Едет час, едет два, темень. Только неверный свет запылённых перистыми облаками звёзд освещал дорогу. Видит – вдали отражает небо, бликует чуть заметно водопойное озерцо, а посередине его трое заблудившихся телков мычат так жалобно.
Подъехал Ера к озерцу и кличет телят. Те не идут. Обогнул Ера водопой с другой стороны и снова кличет. Не идут. Не хочется мальчишке мочить конские бабки в студёной воде, не хочется и самому ног замочить. Достал он камчу и хлыщет ей, щёлкает по воздуху, чтоб выгнать упрямых телков из воды. Те мычат, вздрагивают от испуга и не идут. Между тем тьма стала густая, как наваристая остывшая шурпа.
Слез Ера с кобылы, смочил в воде пересохшие губи и стал думать, как ему телят выманить. Слышит – стихло всё вокруг. Не стрекочет в траве саранча и сверчок, не звенят крыльями комары и мошки, даже ветер стих, не колышет травы.
Огляделся Ера, никого не видать. Только темень подступает к нему ближе и ближе. Телята молчат, боятся вдохнуть. Кобыла тоже замерла, даже хвостом не шевельнёт.
Тут только понял Ера, что что-то не ладное творится. Вскочил на кобылу и ну её за повод дёргать, да пятками по бокам лупить. Та не шелохнётся.
Оглянулся подпасок, а тьма совсем уже рядом, залила кобыльи копыта и в тьме той, отражаются мириады небесных светил, словно рассыпанный жемчуг. Закричал парнишка, спрыгнул на землю, хотел было побежать к аулу, но песок под его ногами расступился, и ноги увязли.
А ползущая по степи тьма обрела очертания. Силуэты женщин, мужчин, зверей с горящими голодом глазами.
Наутро подпаска искали уже всем аулом. Нашли лишь замёрзших до смерти в воде телят, лежащую на боку околевшую кобылу, а у её копыт обуглившийся, запачканный подсохшей кровью тумар.
– Вжуть, – Амир жевал вяленное мясо, греясь у огня. – Давже кофтей не офтавили…
Он проглотил еду, поставил к огню закопчённую алюминиевую кружку и налил в неё воды из бутылки.
– Но почему его отправили за телятами? – недоумевая спросил парень.
– Баксы в том ауле видимо был из тех, кто не пускал Пира на охоту, - ответил Дед. – Не уследил…
– Почему мы отпустили Кулана?
– Тебе нечего ему предложить, Двоедушник…
– А сколько крови они за раз просят? – поинтересовался он после недолгого молчания.
– Точно не знаю, - потёр подбородок Дед. – Я думаю это зависит от того, какой стихии Пир…
– Вы всегда отпускали Кулана?
– Безлунная ночь за мой век была только дважды… Да, отпускал.
Повисло молчание, прерываемое лишь треском горевшего хвороста. Внезапно Канат-ата вскинулся, подпрыгнул со своего места и замер.
– Ата, что с вами? – насторожился Амир.
Он проследил за взглядом дедушки и увидел, что к огню приближается путник.
[1] Казахский обряд "тусау кесу" - перерезание пут - проводится, когда ребенок начинает делать первые шаги.
[2] Аксакал — глава рода, старейшина, почтенный пожилой мужчина у тюркских народов в Средней Азии и частично на Кавказе.
[3] Акжол, Ак жол или Ак-Жол — многозначный термин, досл.: «Светлый путь»