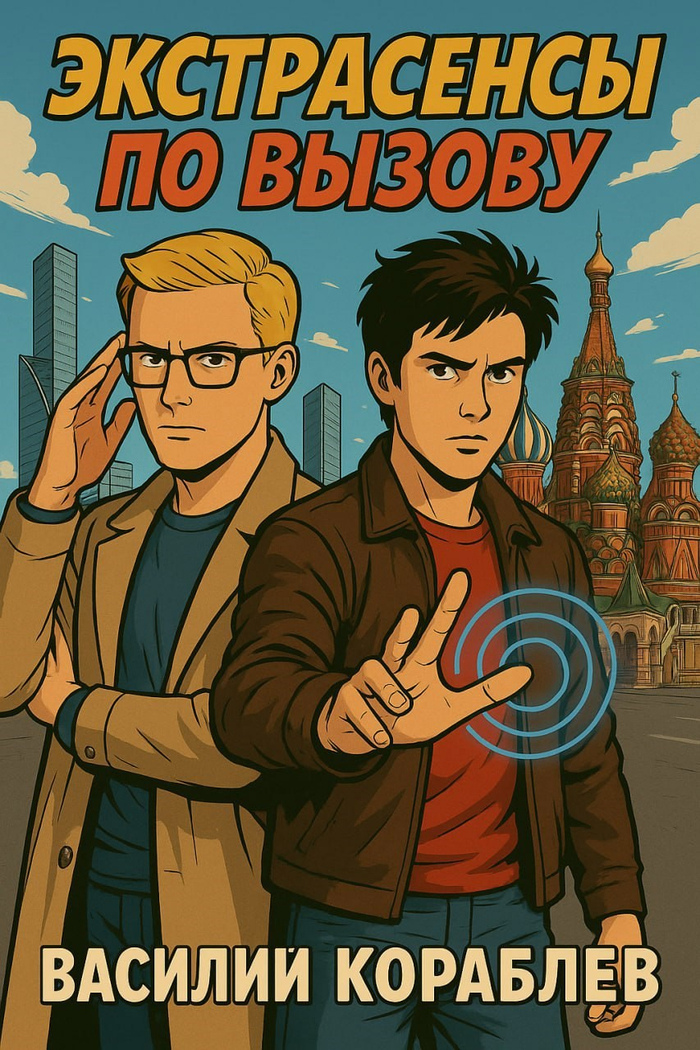Ладно, я не знаю, куда ещё это написать. Друг рассказал мне об этом месте, сказал, что вы более открыты, чем большинство. Мне нужно это выплеснуть, записать всё, потому что я чувствую, что либо схожу с ума, либо попал в серьёзную беду. Может, и то и другое.
Началось всё — или, точнее, я впервые заметил это — когда мне было около шестнадцати. Мы всю жизнь жили в одной и той же квартире. Старый дом довоенной постройки, с толстыми стенами, высокими потолками и планировкой, будто её придумал человек, ненавидящий прямые линии. Моя комната была в конце длинного узкого коридора, который отходил от общей гостиной. Это всегда была самая тёмная часть квартиры, там потолочный свет как будто никогда не был достаточно ярким.
В самом конце этого коридора, за дверью моей спальни слева и небольшим бельевым шкафом справа, была глухая стена. Или — как считалось — глухая стена.
Она не была вычурной или жуткой. Наоборот, что было, пожалуй, даже хуже. Обычная, плоская, деревянная дверь, покрашенная в тот самый «арендодательский» белёсый цвет, как всё остальное. Но что-то было не так. Наличник был чуть тонковат, латунная ручка — потемневшая сильнее других. Она была чужой. Я знал — тем самым глубоким, инстинктивным знанием, которое не объяснить, — что если бы я измерил внешний периметр здания и нашу квартиру, где-то пропал бы кусок пространства. Кусок размером с комнату.
Первый раз я попытался её открыть просто из любопытства. Я шёл по коридору в свою комнату и просто… остановился перед ней. Рука сама потянулась, пальцы обхватили прохладный, гладкий металл ручки. Она была реальна. Под ладонью чувствовалась твёрдость.
Прежде чем я успел повернуть, из кухни разрезал тишину мамин голос: «Солнышко? Ужин почти готов. Что ты там делаешь?»
«Иду уже», — крикнул я, всё ещё держась за ручку.
Я услышал её шаги, мягкое шуршание тапочек по паркету. Она завернула за угол, и её улыбка на долю секунды дрогнула. В её взгляде мелькнула огромная, пронзительная усталость.
«Что ты делаешь?» — спросила она мягко.
«Мне просто интересно, что тут внутри», — сказал я, указав на дверь. — «Не помню, чтобы она когда-нибудь была открыта».
Она медленно моргнула. «Что — „открыта“, милый?»
Она проследила за моим взглядом, её глаза остановились на месте, где была моя рука. Она посмотрела на меня, потом на стену, снова на меня. В её выражении было болезненное недоумение — как если бы любимый пёс вдруг забыл, как ходить.
«Ты стоишь перед стеной», — сказала она нежно, но твёрдо. — «Пойдём. Поедим. Ты, должно быть, устал».
Она не стала ждать ответа. Просто развернулась и ушла. Я стоял ещё секунду, держа ладонь в воздухе там, где только что была ручка. Посмотрел снова. Она всё ещё была. Дверь, наличник, ручка. Я видел тонкие паутинки трещинок в краске. Я снова протянул руку — и пальцы коснулись холодной, шершавой штукатурки. Дверь исчезла. Там была только стена.
Я мотнул головой, холодный пот выступил на шее. Закружилась голова. Наверное, показалось. Стресс из-за школы, может. Я пошёл на кухню, поужинал, и больше никто об этом не говорил.
Я шёл по коридору — и она там была. Я ловил её краем глаза. Иногда я останавливался и смотрел, пытаясь заставить её удержаться, доказать себе, что я не схожу с ума. Но стоило попытаться сфокусироваться, действительно решиться взаимодействовать с ней, как кто-нибудь вмешивался.
Младшая сестра была самой прямой. Я стоял как-то днём, просто смотрел на неё, сердце грохотало в груди. Сестра промчалась по коридору с телефоном в руке.
«Что с тобой?» — спросила она, даже не подняв глаз.
«Ты всё время так делаешь. Стоишь тут, как крип, пялишься на стену. Это странно».
«Это не стена», — прошептал я. — «Это дверь».
Она наконец оторвалась от экрана, на лице — искреннее раздражение. «Окей, что угодно. Ты перегородил проход». Она протиснулась мимо, задела меня плечом и скрылась в своей комнате. Я обернулся. Дверь была на месте, немая и белая.
Хуже всех был отец. Его реакция была не растерянностью, как у мамы, и не раздражением, как у сестры. Это была глубокая, тихая злость. Злость, которой что-то прикрывали.
Однажды ночью я не мог уснуть. В квартире стояла тишина, все спали. Я выскользнул из своей комнаты и пошёл по коридору. Лунный свет из окна гостиной едва добирался сюда, вытягивая длинные, искривлённые тени. И в этом полумраке дверь казалась реальнее, чем когда-либо. Я почти чувствовал запах пыли и затхлого воздуха, который, как мне казалось, был за ней.
Я глубоко вдохнул и потянулся к ручке. Пальцам оставался дюйм, когда за спиной из темноты прозвучал его голос:
Я развернулся. Отец стоял на другом конце коридора — силуэт на фоне слабого света. Лица я не видел.
«Иди спать», — сказал он. Голос был ровный, без эмоций, но в нём была тяжесть, от которой холодела кровь. — «Там для тебя ничего нет».
«Но я её вижу», — взмолился я, голос сорвался. — «Пап, здесь есть дверь».
«Там стена», — сказал он и сделал шаг вперёд. — «Ты устал. Тебе мерещится. Иди спать. Сейчас».
Я не спорил. В его тоне было что-то, что давало понять: это не обсуждается. Я юркнул в свою комнату и лёг, дрожа всем телом. Я никогда не видел его таким. Это было не «отец велит сыну лечь». Это было как «охранник предупреждает заключённого не подходить к забору».
Тогда я и начал слышать звуки.
Сначала они были такими тихими, что я списывал их на трубы или соседей сверху. Мягкое шуршание, как будто мышь за штукатуркой. Но оно всегда шло из одного и того же места. Из-за двери.
Потом шорох стал более лихорадочным. Более… осмысленным. Как ногти, скребущие по дереву. Я лежал ночами, прижав ухо к стене своей спальни, пытаясь разобраться. Уговаривал себя, что это крысы. Большие. Но я знал — нет.
Однажды вечером, когда я делал уроки, я услышал это. Голос. Приглушённый, смазанный, но несомненно человеческий. Крик. Короткий, отчаянный всхлип, который резко оборвался.
Я вскочил со стула и вылетел в коридор. Дверь была там — яркая, белая, под тусклой лампой. Я прижался к ней ухом, весь дрожа.
«Вы слышали это?» — крикнул я, и голос отдался по квартире.
Мама появилась из гостиной с книгой в руке. «Что слышала, милый? Ты закричал».
«Крик! Он был отсюда!» Я хлопнул ладонью по плоскости двери.
Она тяжело вздохнула, на лице — та же уставшая тень. «Нет никакого „отсюда“. За этой стеной — квартира мистера Хендерсона. Ему девяносто. Может, у него телевизор был включён».
«Это не было похоже на телевизор», — возразил я. — «Это звучало так, будто кто-то ранен».
Подошёл отец, стал рядом с ней. Он смотрел поверх меня, на стену, челюсть была сжата. «Прекрати», — сказал он низко. — «Ты пугаешь маму».
«Я никого не пытаюсь пугать! Я говорю, что слышал!»
После этого звуки стали чаще. Мольбы стали понятнее. «Помогите», — шептало, тоненьким, сиплым голоском, который, казалось, просачивался сквозь дерево. «Пожалуйста, здесь так темно». Иногда это был мужской голос, иногда женский. Порой — детский.
Слышал их только я. Я пытался записать на телефон, но получал лишь шипение и низкий гул дома. Я превращался в призрака в собственном доме. Я похудел. Почти перестал разговаривать за ужином. Больше времени сидел в комнате в наушниках, пытаясь заглушить шёпоты с конца коридора.
Семья начала обращаться со мной как со стеклянным. Говорили мягко, умиротворяющим тоном. Мама оставляла под дверью перекусы. Сестра перестала поддевать меня и просто… избегала. Они ходили на цыпочках, и это душило. Они считали, что я схожу с ума. Я сам начинал в это верить.
Перелом случился спустя пару лет, когда я вернулся на каникулы после первого курса. Я думал, что смена обстановки поможет, что расстояние перезагрузит мозг. Но стоило пройти по тому коридору, она была там. Дверь. Будто ждала меня. И той ночью звуки были хуже, чем когда-либо. Это были уже не шёпоты. Это был крик. Высокий, тонкий визг чистого ужаса, который не прекращался.
Я вылетел из комнаты, закрыв уши ладонями. «Вы что, этого не слышите? Ради Бога, как вы можете этого не слышать?»
Родители сидели в гостиной и смотрели телевизор. Звук телевизора полностью заглушался визгом в моей голове.
Отец поднялся, лицо побледнело. Мама беззвучно плакала.
«Сделай что-нибудь, чтобы это прекратилось!» — умолял я, слёзы струились по лицу. — «Папа, пожалуйста, ты должен что-то сделать!»
Он подошёл ко мне, шаги тяжёлые. Положил руки мне на плечи — хватка как железо. Посмотрел прямо в глаза, и в его взгляде была знакомая, невыносимая боль.
«Послушай меня», — сказал он сипло. — «Ты должен быть сильным. Ты должен это игнорировать. Просто… отсекай».
«Я не могу! Оно слишком громко!»
И тогда он сказал слова, которые всё изменили. Он наклонился ближе, прошептал хрипло, в глазах — отчаяние, какого я не видел.
«Я знаю», — процедил он. — «Оно громче для тебя, чем было для твоего деда».
Крик в моей голове оборвался. Мир стал тихим.
Он понял, что сказал. Руки ослабли, он отступил, лицо побелело. «Я… я не это имел в виду…»
«Что ты имел в виду?» — потребовал я, идя за ним, пока он пятился. — «Как было у деда?»
Мама уже рыдала вслух. «Не надо», — взмолилась она отцу. — «Пожалуйста, не надо».
«Дед умер от сердечного приступа», — сказал я, и слова были как пепел во рту. — «Так вы всегда говорили».
Отец не смотрел на меня. Глядел в пол, плечи опустились, поражённый. «Это упрощённая версия».
Плотина прорвалась. Я донимал его днями. Не отпускал. Эта фраза подтвердила всё, что я пережил. Я был не сумасшедший. Это было реально. Это уже случалось.
Наконец он сломался. Провёл меня в маленькую пыльную кладовку в глубине квартиры — место, забитое старыми декларациями и сломанной техникой. С самого дна, из-под стопки молью побитых одеял, он вытащил небольшой деревянный сундук.
«Твоя бабушка отдала это мне после его смерти», — сказал он глухо. — «Просила сжечь. Я не смог».
Внутри были вещи деда. Старые фото, медаль, письма. И на дне — тонкий кожаный дневник. Он принадлежал его старшему брату, моему двоюродному деду. О котором в семье никогда и ни при каких условиях не говорили.
Я унёс дневник к себе и открыл. Первые страницы датированы временем сразу после Второй мировой. Он писал о возвращении домой, о поисках работы, о том, как жил с родителями и младшим братом — моим дедом — в этой самой квартире.
Поначалу записи были обычными. Он писал о городе, о девушке, что ему нравилась, о раздражении на семью. Потом тон начал меняться. Он упомянул коридор.
12 октября. В конце коридора, за комнатой брата, странная тяга. Мать говорит, это старый дом проседает, но сквозняк… какой-то прицельный. Он идёт от двери, которой, как мне кажется, раньше не было. Она простая, белая. По планам дома, что есть у отца, не должна вести никуда.
У меня похолодела кровь. Я читал дальше.
29 октября. Сегодня попытался открыть дверь. Брат остановил. Посмеялся и спросил, зачем я пытаюсь пройти сквозь стену. Когда посмотрел ещё раз, он был прав. Там была штукатурка. Но я знаю, что видел. Это не выдумка. Он ещё мал, не замечает. Но я видел.
15 ноября. Начались звуки. Шорох. Думал, крыса, но уж больно размеренно. А вчера… голос. Женщина, кажется. Просила о помощи. Я спросил отца, слышал ли он, — он разозлился. Запретил мне подходить к тому концу коридора. Он выглядел испуганным.
Дальше записи становились всё рванее. Почерк, некогда ровный и аккуратный, превращался в лихорадочную каракуль. Те же шёпоты, те же мольбы. Семья — тот же отказ, те же уверения, что он болен, что война повредила ему мозг.
7 декабря. Они считают меня безумцем. Шепчутся, когда думают, что я не слышу. Хотят отправить меня прочь. Но я не безумец. Там кто-то заперт. Я слышу их каждую ночь. Они умоляют выпустить. Как может моя семья быть столь жестока, оставляя кого-то страдать? Безумцы они, не я.
21 декабря. Теперь очень громко. Крики. Это не прекращается. Не могу есть. Не могу спать. Брат — мой собственный брат — смотрит на меня с жалостью. Он не слышит. Он не понимает. Только я могу помочь. Ручка такая холодная. Но я знаю, что должен сделать.
Последняя запись — всего несколько слов, выведенных с такой силой, что перо прорезало бумагу.
23 декабря. Я должен их выпустить.
Под ней — вырезка из газеты, пожелтевшая, хрупкая, вложенная на задний форзац. Короткая заметка. В ней говорилось, что мой двоюродный дед был помещён в государственную психбольницу после буйного психоза, во время которого он кидался на стену в квартире, крича, что «освобождает пленников». Он умер там тридцать лет спустя.
Я закрыл дневник, руки так тряслись, что я едва его удержал. Вышел в гостиную, держа его, как бомбу. Отец сидел на диване, голову уткнул в ладони. Мать рядом, обняла его за плечи. Они подняли глаза, когда я вошёл. Они уже всё знали.
«Это не болезнь», — сказал я мёртвым голосом. — «Правда?»
Отец наконец посмотрел на меня, лицо — маска горя. «Нет», — сказал он. — «Хуже. Это… штука. Бремя. Она цепляется к одному члену семьи в каждом поколении. Похоже, выбирает сыновей. Она выбрала моего дядю. Выбрала моего отца. А теперь… выбрала тебя».
Он рассказал всё. Сказал, что его отец, мой дед, тоже видел дверь. Слышал звуки. Но, увидев, что стало с братом, он выбрал другой путь. Всю жизнь игнорировал это. Много пил. Был холодным, отстранённым человеком. Жил в постоянном состоянии управляемого ужаса, ведя бой, которого никто больше не видел. Стресс, сказал отец, и убил его на самом деле. Не сердечный приступ. Годы криков за дверью просто… износили его тело.
«Это паразит», — прошептал отец, умоляя взглядом. — «Он питается вниманием. Чем больше ты на нём зациклен, чем внимательнее слушаешь, тем сильнее он становится. Тем громче звучит. Твой двоюродный дед пытался бороться, открыть дверь. Оно пожрало его. Твой дед игнорировал, и оно отравило его изнутри. Мне… повезло. Оно меня миновало. Я никогда не видел. Не слышал. Я только смотрел, как страдает мой отец, и молился, чтобы оно не пришло за моим сыном».
Он разрыдался, выплеснув годы страха и вины. «Ты должен быть сильнее их», — рыдал он. — «Ты должен прожить жизнь так полно, так громко, чтобы заглушить его. Ты должен забыть, что тот коридор вообще существует. Пожалуйста. Тебе придётся его заморить. Дать ему умереть. Просто живи и не оглядывайся».
Я всё выслушал. Я слышал его слова, видел его слёзы. И часть меня — логичная, образованная — отвергла всё это. Проклятие? Родовой паразит? Слышится как фэнтези. Куда правдоподобнее — и по-своему печальнее — другое. У моего двоюродного деда была тяжёлая психическая болезнь. Травма породила семейную общую галлюцинацию, фольклор, передававшийся страхом и внушением. У деда, вероятно, были свои трудности, а отцовская тревога проявилась как это защитное, лихорадочное отрицание. А я? Я просто следующий мужчина в роду с генетической предрасположенностью к шизофрении.
В это я и решил верить. Это был единственный разумный вариант.
Я сказал им, что мне нужно уехать. Не от них — от квартиры. От среды. Мне нужен был новый старт, место без истории, без тёмных коридоров. Отец спорил, умолял остаться, чтобы он мог «помочь», но я знал, что не могу. Оставаться — значило признать проклятие реальным. Уехать — выбрать здравый смысл.
Я устроился на хорошую работу в городе за тысячу миль. Переезд пролетел как в тумане — коробки и прощания. В последний раз, когда я видел отца, он обнял меня так крепко, что я не мог дышать. «Будь сильным», — прошептал он мне в ухо. — «Не слушай».
Моя новая квартира совсем не похожа на старую. Современный высотный дом. Чистые линии, много дневного света, всё — с нуля. Первые два месяца всё было идеально. Тихо. Блаженно, изумительно тихо. Я спал всю ночь впервые за годы. Начал чувствовать себя нормальным. Был уверен, что сделал правильный выбор. Я сбросил семейное безумие.
Вчера поздно вечером я распаковал последнюю коробку. Обустроил кабинет во второй спальне. Уже было поздно, и я шёл из кабинета на кухню за водой.
Основная зона — открытая планировка, но к спальне и ванной ведёт короткий коридор. Маленькое, функциональное пространство. Чистый холст.
И в его конце, где должна быть глухая, пустая стена, — дверь.
Я застыл. Пустой стакан выскользнул из руки и разбился о пол.
Точно такая же. Простая, с плоскими филёнками, окрашенная в чуть-слишком-яркий белый, который не совпадает с остальными наличниками. Та же потемневшая латунная ручка.
Дело было не в квартире. Никогда не было в квартире.
Дело во мне. Я принёс её с собой.
Я стоял, кажется, часами, босыми ногами в нескольких дюймах от осколков, не отрывая глаз от невозможной двери. В голове звучали отцовские слова. Она цепляется к одному человеку.
Телефон завибрировал в кармане. Отец. Сообщение: «Проверяю. Всё в порядке?»
Я не смог ответить. Не смог двинуться.
Медленно, дрожа, я сделал шаг. Ещё один. Встал перед ней — невозможной архитектурой моего личного ада. Я чувствовал лёгкую, холодную тягу, сочащуюся снизу. Отец умолял быть сильным, игнорировать, жить и заморить её. Дневник двоюродного деда показывал цену попытки бороться.
Но они не подумали о третьем пути. Не бороться. Не игнорировать.
Я наклонился, сердце билось в клетке рёбер, как пойманная птица. Прижал ухо к гладкой, холодной древесине.
Сначала была лишь тишина. Глубокая, густая тишина, тревожнее любого крика. Я задержал дыхание, слушая.
И шёпот — такой близкий, будто он был по ту сторону моей собственной кожи.
Отец умолял, чтобы я был достаточно сильным, чтобы не слушать. Дед был достаточно сильным, чтобы не слушать, — и это его сломало. Двоюродный дед был достаточно сильным, чтобы бороться, — и это его уничтожило.
Я не знаю, достаточно ли я силён.
Знаю лишь одно: впервые в жизни рядом нет никого, кто скажет мне остановиться.
Чтобы не пропускать интересные истории подпишись на ТГ канал https://t.me/bayki_reddit